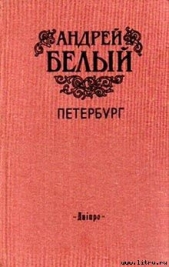Том 2. Петербург

Том 2. Петербург читать книгу онлайн
Андрей Белый (1880–1934) вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество, искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
Во второй том Собрания сочинений вошел роман «Петербург».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Странное, очень странное полусонное состояние.
Вот в таком состоянии он сидел перед сардинницей: видел — не видел — он; слышал — не слышал; будто в ту неживую минуту, когда в черное объятие кресла грянулось это усталое тело, грянулся этот дух прямо с паркетиков пола в неживое какое-то море, в абсолютный нуль градусов; и видел — не видел: нет, видел. Когда усталая голова склонилась неслышно на стол (на сардинницу), то в открытую дверь коридора гляделось бездонное, странное, что Николай Аполлонович постарался откинуть, переходя к текущему делу: к далекому астральному путешествию, или сну (что заметим мы — то же); а открытая дверь продолжала зиять средь текущего, открывая в текущее свою нетекущую глубину: космическую безмерность.
Николаю Аполлоновичу чудилось, что из двери, стоя в безмерности, на него поглядели, что какая-то там просовывалась голова (стоило на нее поглядеть, как она исчезала): голова какого-то бога (Николай Аполлонович эту голову отнес бы к головам деревянных божков, каких встретите вы и поныне у северо-восточных народностей, искони населяющих тусклые тундры России). Ведь таким же точно божкам, может быть, в старинные времена поклонялись его киргиз-кайсацкие предки; эти киргиз-кайсацкие предки, по преданию, находились в сношении с тибетскими ламами; в крови Аб-Лай-Уховых они копошились изрядно. Не оттого ли Николай Аполлонович мог испытывать нежность к буддизму? Тут сказалась наследственность; наследственность приливала к сознанию; в склеротических жилах наследственность билась миллионами кровяных желтых шариков. И теперь, когда открытая дверь Аблеухову показала безмерность, он отнесся к этому весьма странному обстоятельству с достойным хладнокровием (ведь, это уж было): опустил в руки голову.
Миг, — и он бы спокойно отправился в обычное астральное путешествие, развивая от бренной своей оболочки туманный, космический хвост, проницающий стены в безмерное, но сон оборвался: несказанно, мучительно, немо шел кто-то к двери, взрывая ветрами небытия: страшная старина, как на нас налетающий вопль бегущего таксомотора, вдруг окрепла звуками старинного пения.
Это пение Николай Аполлонович верней отгадал, чем узнал:
— «Уймии-теесь… ваа-лнее-ния страа-аа-стии…»
Это же незадолго пред тем ревела машина:
— «Уснии… безнаа…»
— «Ааа» — взревело в дверях: труба граммофона? таксомоторный рожок? Нет: в дверях стояла старинная-старинная голова.
Николай Аполлонович привскочил.
Старинная, старинная голова: Кон-Фу-Дзы или Будды? Нет, в двери заглядывал, верно, прапрадед, Аб-Лай.
Лепетал, пришепетывал пестрый шелковый переливный халат; почему-то вспомнился Николаю Аполлоновичу его собственный бухарский халат, на котором павлиньи переливные перья… Пестрый шелковый переливный халат, на котором по дымному, дымно-сапфирному полю (и в дымное поле) ползли все дракончики, остроклювые, золотые, крылатые, малых размеров; о пяти своих ярусах пирамидальная шапка с золотыми полями показалася митрою; над головой и светил, и потрескивал многолучевой ореол: вид чудесный и знакомый нам всем! В центре этого ореола какой-то морщинистый лик разъял свои губы с хроническим видом; преподобный монгол вошел в пеструю комнату; и за ним провеяли тысячелетние ветерки.
В первое мгновение Николай Аполлонович Аблеухов подумал, что под видом монгольского предка, Аб-Лая, к нему пожаловал Хронос (вот что таилось в нем!); суетливо заерзали его взоры: он в руках Незнакомца отыскивал лезвие традиционной косы; но косы в руках не было: в благоуханной, как первая лилия, желтоватой руке было лишь восточное блюдце с пахнущей кучечкой, сложенной из китайских розовых яблочек: райских.
Рай Николай Аполлонович отрицал: рай, или сад (что, как видел он, — то же) не совмещался в представлении Николая Аполлоновича с идеалом высшего блага (не забудем, что Николай Аполлонович был кантианец; более того: когенианец); в этом смысле он был человек нирванический.
Под Нирваною разумел он — Ничто.
И Николай Аполлонович вспомнил: он — старый туранец — воплощался многое множество раз; воплотился и ныне: в кровь и плоть столбового дворянства Российской империи, чтоб исполнить одну стародавнюю, заповедную цель: расшатать все устои; в испорченной крови арийской должен был разгореться Старинный Дракон и все пожрать пламенем; стародавний восток градом невидимых бомб осыпал наше время. Николай Аполлонович — старая туранская бомба — теперь разрывался восторгом, увидевши родину; на лице Николая Аполлоновича появилось теперь забытое, монгольское выражение; он казался теперь мандарином Срединной империи, облеченным в сюртук при своем проезде на запад (ведь, он был здесь с единственной и секретнейшей миссией).
— «Так-с…»
— «Так-с…»
— «Так-с…»
— «Очень хорошо-с!»
Странное дело: как он вдруг напомнил отца! Так с душившим душу восторгом старинный туранец, облеченный на время в бренную арийскую оболочку, бросился к кипе старых тетрадок, в которых были начертаны положения им продуманной метафизики; и смущенно, и радостно ухватился он за тетрадки: все тетрадки сложились пред ним в одно громадное дело — дело всей жизни (уподобились сумме дел Аполлона Аполлоновича). Дело жизни его оказалось не просто жизненным делом: сплошное, громадное, монгольское дело засквозило в записках под всеми пунктами и всеми параграфами: до рождения ему врученная и великая миссия: миссия разрушителя.
Этот гость, преподобный туранец, стоял неподвижно: ширилась его глаз беспросветная, как ночь, темнота; а руки — а руки: ритмически, мелодически, плавно поднялись они в бескрайнюю вышину; и плеснула одежда; шум ее напомнил трепеты пролетающих крыл; поле дымного фона очистилось, углубилось и стало куском далекого неба, глядящего сквозь разорванный воздух этого кабинетика: темно-сапфирная щель — как она оказалась в шкафами заставленной комнате? Туда пролетели дракончики, что были расшиты на переливном халате (ведь халат-то стал щелью); в глубине мерцали там звездочками… И сама старинная старина стояла небом и звездами: и оттуда бил кубовый воздух, настоянный на звезде.
Николай Аполлонович бросился к гостю — туранец к туранцу (подчиненный к начальнику) с грудой тетрадок в руке:
— «Параграф первый: Кант (доказательство, что и Кант был туранец)».
— «Параграф второй: ценность, понятая, как никто и ничто».
— «Параграф третий: социальные отношения, построенные на ценности».
— «Параграф четвертый: разрушение арийского мира системою ценностей».
— «Заключение: стародавнее монгольское дело».
Но туранец ответил.
— «Задача не понята: вместо Канта — быть должен Проспект».
— «Вместо ценности — нумерация: по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена».
— «Вместо нового строя: циркуляция граждан Проспекта — равномерная, прямолинейная».
— «Не разрушенье Европы — ее неизменность…»
— «Вот какое — монгольское дело…»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Николаю Аполлоновичу представилось, что он осужден: и пачка тетрадок на руках его распалась кучечкой пепла; а морщинистый лик, знакомый до ужаса, наклонился вплотную: тут взглянул он на ухо, и — понял, все понял: старый туранец, некогда его наставлявший всем правилам мудрости, был Аполлон Аполлонович; вот на кого он, понявши превратно науку, поднимал свою руку.
Это был Страшный Суд.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— «Как же это такое? Кто же это такое?»
— «Кто такое? Отец твой…»
— «Кто ж отец мой?»
— «Сатурн…»
— «Как же это возможно?»
— «Нет невозможного!..»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Страшный Суд наступил.
Какие-то протекшие сновидения тут были действительно; тут бежали действительно планетные циклы — в миллиардногодинной волне: не было ни Земли, ни Венеры, ни Марса, лишь бежали вкруг Солнца три туманных кольца; еще только что разорвалось четвертое, и огромный Юпитер собирался стать миром; один стародавный Сатурн поднимал из огневого центра черные зонные волны: бежали туманности; а уж Сатурном, родителем, Николай Аполлонович был сброшен в безмерность; и текли вокруг одни расстояния.