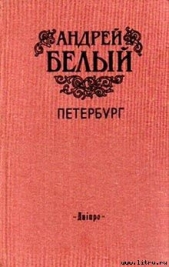Том 2. Петербург

Том 2. Петербург читать книгу онлайн
Андрей Белый (1880–1934) вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество, искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
Во второй том Собрания сочинений вошел роман «Петербург».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всюду белые кубы деревенских домишек; погоняет криками ослика раскричавшийся бербер; куча из веток серебится на ослике; бербер — оливковый.
Николай Аполлонович не слушает звуков «там-там»’а; и не видит он бербера; видит то, что стоит перед ним: Аполлон Аполлонович — лысенький, маленький, старенький, — сидя в качалке, качалку качает мановением головы и движеньем ноги; это движение — помнится…
Издали розовеет миндаль; тот гребенчатый верх— ярко лилово-янтарный; этот верх — Захуан, а тот мыс — карфагенский. Николай Аполлонович у араба снял домик в береговой, подтунисской деревне.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Под тяжестью снеговых, сверкающих шапок перегнулись еловые ветки: косматые и зеленые; впереди деревянное пятиколонное здание; через перила терассы сугробы перекинулись холмами; на них розовый отблеск от февральской зари.
Сутуловатая показалась фигурка — в теплых валенках, варежках, опираясь на палку; приподнят меховой воротник; меховая шапка надвинута на уши; пробирается по расчищенной тропке; ее ведут под руки; у ведущей фигуры в руках теплый плед.
На Аполлоне Аполлоновиче в деревне появились очки; запотевали они на морозе и не видно было сквозь них ни лесной гребенчатой дали, ни дымка деревенек, ни — галки: видны тени и тени; между них — лунный блеск косяков да квадратики паркетного пола; Николай Аполлонович — нежный, внимательный, чуткий, — наклонив низко голову, переступает: из тени — в кружево фонарного света; переступает: из светлого этого кружева — в тень.
Вечером старичок у себя за столом посреди круглых рам; а в рамах портреты: офицера к лосинах, старушки в атласной наколке; офицер в лосинах — отец его; старушка в наколке — покойная матушка, урожденная Сваргина. Старичок строчит мемуары, чтобы в год его смерти они увидели свет.
Они увидели свет.
Остроумнейшие мемуары: их знает Россия.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пламень солнца стремителен: багровеет в глазах: отвернешься, и — бешено ударяет в затылок; и пустыня от этого кажется зеленоватой и мертвенной; впрочем — мертвенна жизнь; хорошо здесь навеки остаться — у пустынного берега.
В толстом пробковом шлеме с развитою по ветру вуалью Николай Аполлонович сел на кучу песку; перед ним громадная, трухлявая голова — вот-вот — развалится тысячелетним песчаником; — Николай Аполлонович сидит перед Сфинксом часами.
Николай Аполлонович здесь два года; занимается в Булакском музее. «Книгу Мертвых» и записи Манефона толкуют превратно; для пытливого ока здесь широкий простор; Николай Аполлонович провалился в Египте; и в двадцатом столетии он провидит — Египет, вся культура, — как эта трухлявая голова: все умерло; ничего не осталось.
Хорошо, что он занят так: иногда, отрываясь от схем, ему начинает казаться, что не все еще умерло; есть какие-то звуки; звуки эти грохочут в Каире: особенный грохот; напоминает он — этот же звук: оглушительный и — глухой: с металлическим, басовым, тяготящим оттенком; и Николай Аполлонович — тянется к мумиям; к мумиям привел этот «случай». Кант? Кант забыт.
Завечерело: и в беззорные сумерки груды Гизеха протянуты безобразно и грозно; все расширено в них; и все от них — ширится; во взвешенной в воздухе пыли загораются темно-карие светы; и — душно.
Николай Аполлонович привалился задумчиво к мертвому, пирамидному боку.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В кресле, на самом припеке, неподвижно сидел старичок; огромными васильковыми он глазами все посматривал на старушку; ноги его были закутаны в плед (отнялись, видно, ноги); на колени ему положили гроздья белой сирени; старичок все тянулся к старушке, корпусом вылезая из кресла:
— «Говорите, окончил?.. Может быть, и приедет?»
— «Да: приводит в порядок бумаги…»
Николай Аполлонович наконец монографию свою довел до конца.
— «Как она называется?»
И — старичок просиял:
— «Монография называется… ме-емме… „О письме Дауфсехруты“». Аполлон Аполлонович забывал решительно все: забывал названия обыкновенных предметов; слово ж то — Дауфсехруты — твердо помнил он; о «Дауфсехруты» — писал Коленька. Голову закинешь наверх, и золото зеленеющих листьев там: бурно бушует: синева и барашки; по дорожке бегала трясогузочка.
— «Он, говоришь, в Назарете?»
Ну и гуща же колокольчиков! Колокольчики раскрывали лиловые зевы; прямо так, в колокольчиках, стояло перенесное кресло; и на нем морщинистый Аполлон Аполлонович с непробритой щетиною, серебрящейся на щеках, — под парусиновым зонтиком.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В 1913 году Николай Аполлонович продолжал еще днями расхаживать по полю, по лугам, по лесам, наблюдая с угрюмою ленью за полевыми работами; он ходил в картузе; он носил поддевку верблюжьего цвета; поскрипывал сапогами; золотая, лопатообразная борода разительно изменяла его; а шапка волос выделялась отчетливой совершенно серебряной прядью; эта прядь появилась внезапно; глаза у него разболелись в Египте; синие стал носить он очки. Голос его погрубел, а лицо покрылось загаром; быстрота движений пропала; жил одиноко он; никого к себе он не звал; ни у кого не бывал; видели его в церкви; говорят, что в самое последнее время он читал философа Сковороду.
Родители его умерли.
Конец