Колокола
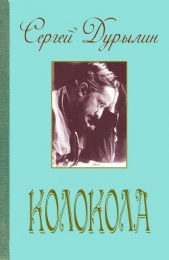
Колокола читать книгу онлайн
Написанная в годы гонений на Русскую Православную Церковь, обращенная к читателю верующему, художественная проза С.Н.Дурылина не могла быть издана ни в советское, ни в постперестроечное время. Читатель впервые обретает возможность познакомиться с писателем, чье имя и творчество полноправно стоят рядом с И.Шмелевым, М.Пришвиным и другими представителями русской литературы первой половины ХХ в., чьи произведения по идеологическим причинам увидели свет лишь спустя многие десятилетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты чего здесь? — окликнул Василья первый красноармеец, высокий, суховатый, и, прилаживаясь, готовился снять с плеча винтовку.
— На колокольню… Звонить… — еле выговорил Василий, задыхаясь.
— Отзвонил, — откликнулся второй красноармеец и засмеялся. Смех, словно винтиком, пробуравил снежеть.
— Проходи. Нельзя на колокольню, — спустив ружье за спину, ответил первый. — Видишь: запечатано.
— А звонить… Звонарь я.
— А может, ты знак подать хочешь врагу пролетариата? Есть такие, которые звонари-провокаторы. К стенке их звонить ставим… — Обернулся к товарищу и крикнул:
— Обход кончай!
— Есть! — ответил маленький.
Они пошли по площади наперерез вьюге.
Василий остался перед колокольней. Он не слышал, как вьюга донесла ему чей-то старательный окрик, звавший его по имени. Что-то шумело над ним. Он поднял голову, чтобы лучше расслышать, что шумит: звон ли это над ним, или медный перегýд вьюги. Помешал разобрать церковный сторож, Павел: он дергал за рукав и объяснял что-то. Долго Василий не слушал объяснений: ему все хотелось разгадать шум; нашел разгадку: «Дошумок дошумливает» — и усмехнулся ей, и тогда стал слушать сторожа и сразу все понял: запечатано Советом. И еще что-то говорил сторож. И это легко было понять: зовет ночевать к себе. Василий покачал головой: Не пойду. — и побрел от колокольни. Сторож крикнул ему вслед: «Как хочешь, а то ночуй!»
Вспомнил, вот также вот звал его когда-то ночевать Николка, когда умерла жена, а он не остался и ушел с колокольни. Он пересек площадь, качаясь от усталости. Холодок в груди был даже приятен. К Коняеву он легко достучался. Коняев был дома. Кипел самовар на столе.
— Что ты, Василий Дементьич? — приветливо спросил Василья Коняев — и тут же поморщился и потер себе лоб, точно отгоняя комара: — Ах, да, колокольню сегодня запечатали!
Виновато улыбнулся Василью и развел руками:
— Ничего не поделаешь, брат. Не о тебе, конечно, речь, но ведь все возможно… Бывали, знаешь, сигнализации. Мы в кольце. Приходится. Осторожность. Временная мера. Пока.
Он хлопотал с чаем. Когда протянул стакан Василью, — глянул на него и вскрикнул с жалостью и будто с облегченьем:
— Да ты просто болен, Василий Дементьич! Лихорадка, что ли?
— Болен, — ответил Василий и усмехнулся. — Дошумок дошумливает.
Коняев удивленно посмотрел на него.
— Что? В ушах шумит?
— Да, в ушах.
— Вот я и говорю, что лихорадит. Я постелю тебе. Выпей чаю, ляжешь, согреешься. Ах, черт, жаль, хины нет! Хорошо бы на ночь…
— Ничего не надо. Лягу.
Коняев уложил Василья на свою постель, а сам постелил себе на полу.
Ночью Василий ворочался на постели и тяжело дышал. Коняев проснулся.
— Что с тобой? — спросил он.
— Не хорошо мне. Отвези в больницу.
— Да ты и здесь, Василий Дементьич.
— В больницу, — строго повторил Василий.
Коняев посмотрел на него: худой, согнувшийся, сидел он на кровати, свесив ноги, и большой палец левой ноги у него странно поджимался и разжимался. Коняев не возражал, спросил только:
— Утра подождешь или сейчас?
— Подожду.
Утром Коняев с трудом разыскал ломового извозчика — и с помощью матери уложил на розвальни Василья и отвез в больницу. Его не хотели принять: больница была полна тифозными.
Лежали в коридорах, на лестницах. Коняев показал свой мандат: член Темьянского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов. Приняли. Положили в палату № 8. Врач посмотрел Василья и бросил фельдшерице:
— Кто его знает. Вероятно, испанка. Впрочем, Испания эта известна: голод и холод.
Василий лежал до вечера молча, с закрытыми глазами, в забытье. Он умер на рассвете. Последних слов его некому было услышать. Да их и не было: он слушал далекий-далекий звон. Он знал теперь, умирая, что то, что шумело над ним, было не дошумок, а — далекий, призывавший его звон. Когда он прислушался, пришел, — окончился и звон.
6.
Прошло два года.
Колокола на соборной колокольне уныло гудели под ударами, наносимыми наскоро, наспех чужими, торопливыми руками: приходящие звонари, сапожник Ванюшка и сторож Фомин, спешили отзвонить ко всенощной, чтобы, заперев колокольню, засветло добраться до дому, — а насупротив колокольни с гудевшими колоколами, в бывшем губернаторском доме, где теперь помещался Темьянский Совдеп, решалась их судьба.
Произошло это так.
Заседание Совдепа затянулось.
Председатель, Коростелев, в дымном френче, бритый, с чуть подсребренными черноватыми вихрами над кочковатым высоким лбом, был недоволен, что главный управляющий делами Совдепа, бывший ходуновский бухгалтер Уткин, затянул доклад. Коростелев наклонился к сидевшему возле него Павлову, в триковой серой блузе, и шепнул недовольно:
— И чего тянет! Еще есть текущие дела.
— У меня по Наробразу есть две штуковины, — отозвался Павлов, выводя красным карандашом домики на обратной стороне листка с отпечатанными красками этикетками заведения искусственных минеральных вод: на оборотной стороне этикеток, за неимением в городе бумаги, велось все делопроизводство Совдепа. Павлов приписал на этикетке слово. Вышло: «Красная Ананасная». Под румяным, как бабье лицо, ананасом, он подписал: «ананас» и повторил про себя: «Она нас, а мы ее! Она нас, а мы ее!.».
Коростелев заглянул к нему в бумагу, посмотрел на часы. Подстриженный наголо Уткин, в толстовке, сшитой из старого сюртука, читал и читал свой доклад, двигая словами и цифрами бойко и скоро, точно щелкал на счетах. Отщелкав, он отер синим с горошком платком лысину, помедлил минуту, и сказал:
— Извиняюсь за утомление, но пролетариат должен добиваться буржуазной точности делопроизводства. Все достижения буржуазии должны быть использованы.
Коростелев нетерпеливо покрутил остро очиненным карандашом вокруг левого указательного пальца, утомленными, покрасневшими глазами оглянул сидевших за красным сукном и выдавил из себя слова:
— У нас еще текущие дела. И они, — он заглянул в лежащий перед ним листок с этикетным минеральным исподом, — имеются у нас в достаточном количестве… Поэтому, я просил бы, товарищей, желающих высказаться по заслушанному докладу, разгрузить часть своих слов и быть определенно кратче.
— Ясно, — откликнулась фельдшерица Микула из Здравотдела.
— Кто просит слова?
Говорили двое пожилых рабочих с бывшего ходуновского завода; сказал два слова голубоглазый, широкоскулый и до безнадежности безусый и розовый красноармеец, но уперся, как в рогатку, в мудреное слово: «констатируем», которое он тщательно выводил с большим-пребольшим «н»:
— КонстаНтируем, товарищи…
Дальше не шло.
Усмешливый Павлов не усидел и вполголоса подмигнул Коняеву, сидевшему между Павловым и Усиковым:
— Законстантúнился, товарищ военный: погиб на Константúне!..
Красноармеец услышал, и совсем остановился. Коростелев пождал секунду и обвел всех глазами:
— Желающих больше нет? Нет. Беру слово себе…
Он говорил тихо, искал слов, но лепил из них выпукло и с остротцой: доклад критиковал. В конце коснулся формы доклада.
— Словесности нам не надо, — говорил он, косясь на Уткина, чинившего длинный, обкусанный красно-синий карандаш. — Удивляюсь даже, как может располагать к словесности такая вот прелестная бумага! — Он щепоткой приподнял искусственно-минеральный листочек и показал всем… — Какая уж тут словесность, когда и писать не на чем! Пишем на китайских чаях и на сельтерской. А мы — все со словесностью. Нам нужно быть кратче. Дела навалено историческим моментом и классовой необходимостью — с Кавказский хребет, а мы…
Соборный густой звон в упор ударил в это время в окна, прорвался через толстую преграду пыльных зеркальных стекол бывшего губернаторского дома — и расплылся по зале заседания, густея и плотнея, как расползающееся масло.
Коростелев нервно сжал красноватые веки глаз, дернул лицом и докончил резко свою фразу подсказанным звоном словом:


























