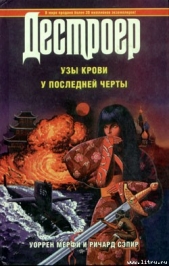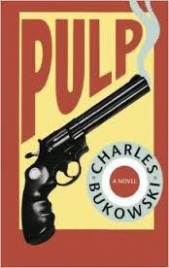У последней черты

У последней черты читать книгу онлайн
Книга о наступивших после первой русской революции годах упадка духа, сладострастного самоуслаждения и отчаянных самоубийств. На многих ее страницах запечатлелось растущее в писателе ощущение болезненности, человеческой своей хрупкости, недолговечности. Как и чахоточный студент Семенов из «Санина», со слезами умиления, а подчас и жалости к самому себе, глядит гордый духом, но хилый телом Арцыбашев на мир, словно в последний раз, и наглядеться не может, стремясь «одним взглядом охватить все и страдая, что не может до мельчайших подробностей удержать в памяти весь мир, с его небом, любовью, зеленью и синеющими воздушными далями».
Такие же чувства испытывали в те годы многие. В романе «У последней черты» как раз и отразились отчаяние, надломленность, разочарованность людей в идеалах борьбы, их жажда умиротворенности, душевного просияния и тишины после только что кроваво прошумевшего урагана революции.
Т. Ф. Прокопов «Возвращение Михаила Арцыбашева».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но это было одно мгновение, в следующее Наумов высоко поднял воротник, нахлобучил шапку на глаза и быстро зашагал дальше.
Ему хотелось одного: хотя бы крошечного торжества своей мысли и власти. Если бы он мог, сам вложил бы револьвер в руку корнета, первой жертвы своей исступленной мысли и безграничного самолюбия.
При мысли, что Краузе умрет, и в этом виноват он, смутное торжество поднималось в груди Наумова. Он уже видел перед собою всех людей… Миллионы несчастных и глупых существ, которые еще не знают, кто народился среди/них и здесь, во мраке, идет неведомый, но страшный! Наумов, казалось, чувствовал, как вырастает, как черной тенью встает над спящей землей. Минутами ясно до болезненности было ощущение своей громадности, и с горделивой злобой становилось жутко от нее. Он смотрел во тьму и как бы видел в ней чье-то благое и величавое лицо, перед которым вставал с вызовом и насмешкой.
— Подлинно ли Ты сильнее меня? — спрашивал он, усмехаясь бестрепетно и зло, и сам чувствовал странность того, что, не веря в Бога, говорит с Ним.
Как будто бы откуда-то сверху он увидел, что мрак ночной кишит людьми: сидят и мыслят великие умы, красивые женщины в сладости зачатия новой жизни отдаются мужчинам, работают на благо будущего миллиарды суровых рук, пишутся гениальные книги, создаются статуи и здания… Колесо человеческой жизни, смазанное кровью, со скрипом и стоном вертится во весь мах, опоясывая землю!.. Жизнь кипит и, кажется, будет вечно кипеть… Но в ней есть некто, во мраке идущий, он, Наумов, одним восставший на нее!.. Он несет свою великую страшную мысль, и она не умрет уже, не может умереть!.. Если бы они знали, что делается в душе этого человека, с каким ужасом и визгом разбежались бы прекрасные женщины, как всплеснули бы руками мудрые мужи, с какой поспешностью кинулись убивать, уничтожать его!..
«Идиоты! — злобно думал Наумов. — И услышат — не поймут!.. Будут рассматривать как курьез, как манию величия, будут изучать, оспаривать, высмеивать… И сами понесут мою мысль в будущее, где когда-то встанет она, грозная и зловещая, во весь рост, как конь блед!..»
Тьма была перед ним, и размах его мысли долетал до темного будущего, пролетая через головы поколений… Там, в тумане, ему мерещилось бледное море исступленных лиц, вздымающихся рук, крови и слез… И над этим туманным морем, как смерч, вставал величаво трагический образ великого пророка, принесшего избавление исстрадавшемуся в тщетной борьбе миру!.. Это — он, Наумов!..
Это было похоже на безумие, и если бы кто-либо во тьме ночной увидел лицо Наумова, в ужасе отпрянул бы от него: таким сумасшедшим восторгом, такой безумной гордостью, неодолимой решимостью и злобой сверкали глаза фанатика на бледной маске с оскаленными в искривленной усмешке зубами.
У себя в номере плохой, хотя и лучшей в городе гостиницы, где в коридоре чадила керосиновая лампочка и спал швейцар, Наумов зажег свечу, сел за стол и стал писать.
VIII
Краузе стоял неподвижно, пока не хлопнула дверь за Наумовым и протопал тяжелыми сапожищами в свою каморку солдат-денщик, потом медленно оглянул комнату. И это лицо испугало бы робкого: это была длинная белая, совершенно картонная маска с наклеенными косыми бровями, сквозь прорези которой смотрели чьи-то живые глаза, со страшным напряжением оглядывавшие комнату.
Точно кто-то чужой, замаскированный корнетом Краузе, тайно вошел в его странную комнату с ее пестрым ковром, блестящим оружием на стенах, таинственной шейкой виолончели в углу и двумя свечами на столе, за которым, казалось, только что шла последняя игра… Вошел в отсутствие хозяина и медленно, пристально и безмолвно изучает в ней каждую мелочь, замышляя недоброе.
Длинная нелепая фигура корнета двигалась по комнате. Было тихо, страшно тихо, и казалось, что в глубоком молчании среди ночи под тоскливо монотонный шум дождя за стенами, в полном одиночестве совершается какой-то странный и жуткий ритуал.
Краузе что-то делал, что-то переставлял, неслышно двигаясь взад и вперед, сопровождаемый черной тенью на стене, — тенью, стерегущей и повторяющей каждое его движение.
Где-то, должно быть, жили люди, смеялись, говорили, пели, смотрели на живые лица друг друга. Здесь, точно в глубине своей души, совершенно один, в глубоком молчании думал о чем-то корнет Краузе.
Не было во всем мире человека, который в эту минуту вспомнил бы о нем, но он думал обо всех. Холодно и жестоко, точно разрезая анатомический препарат с целью найти истину и проверить какой-то решительный опыт, Краузе вспоминал каждого человека, пристально вглядывался в его лицо и холодно забывал. Ничего, что бы пробудило в нем светлую искорку. Пусто и холодно было в его душе, как в ледяной могиле.
И было при этом у корнета Краузе отчетливое представление, что сердце у него и в самом деле маленькое, а голова громадна. Так громадна, что наполняет всю комнату, давит на сердце, на стены, на потолок, гасит свечи, душит, выходит за пределы комнаты, и вот… среди мрака ночи, горя светом изнутри, стоит эта чудовищная голова на пустой и черной земле. Стоит и смотрит.
Медленно поворачиваются страшные, все видящие мертвые глаза, и все, на что смотрят они, умирает, распадается в прах.
Становится очевидно, что в мире существует только она одна — громадная голова корнета Краузе, а кроме нее нет ничего. Она закроет глаза, и все исчезнет.
Этот странный кошмар продолжался минуты две-три. Краузе стоял посреди комнаты и молчал. Потом тихо шевельнулся опять.
Дождь усиленно зашумел за стеной. Корнет взял виолончель, выдвинул на середину комнаты стул, сел и начал играть.
Долго и странно пела виолончель ровным торжественным голосом. В кухне проснулся денщик и подумал, что его благородие опять зачудил! Дождь шумел, и было что-то общее в его непрестанном шорохе, которому, казалось, нет конца, и ровном торжественном голосе виолончели.
Краузе смотрел в угол, не сводя глаз с какой-то, ему одному видимой точки. Косые брови не двигались, длинное лицо стояло, как маска. В душе была пустота, и казалось, что оттого так неподвижно лицо и так застыли глаза, что из угла на него смотрит другое такое же непонятное и неподвижное лицо — лицо смерти.
Виолончель пела, шумел дождь. Два голоса сливались в тягучую жуткую мелодию. Было страшно от этих торжественных звуков пустоты.
Виолончель замолкла. Краузе сейчас же встал и аккуратно поставил ее в угол. Потом потушил свечи на столе и зажег одну возле кровати, в спальне. Черная тень украдкой выбралась из темной комнаты за ним в спальню и села на кровать за его спиной. Краузе стал раздеваться.
Сняв сапоги, он несколько минут неподвижно сидел и смотрел на огонек свечи. Желтое пламя горело ровно и светло, но вдруг стало колебаться, расплываться, обратилось в сверкающий оранжевый круг… Краузе медленно перевел глаза на длинную серую шинель, висевшую в углу на гвоздике. Она висела неподвижно, пустая и серая. Но только что взгляд его сосредоточился, как длинная серая штука заколебалась, стала стягиваться… и растягиваться… Краузе отвернулся и лег. С минуту он лежал неподвижно и тихо шевелил бровями, как бы в недоумении. Потом потушил свечу.
Мгновенно налетел мрак, и скрылось длинное лицо с косыми бровями, и от него скрылось все. В темноте страшно было слышно, как дождь шумит; точно он вдруг подошел к окну и затянул свой могильный шепот настойчиво, в самое ухо. Жуткие тени ходили по комнате. Все мертвые тени… Они озабоченно и суетливо ходят в темноте, что-то делают, сходятся и расходятся, подходят к корнету Краузе, наклоняются над ним и опять отходят. В трех углах, видных Краузе, неподвижно стоят черные и высокие, до самого потолка.
Знакомые лица плавают в черном тумане перед широко открытыми невидящими глазами Краузе. Внимательно и серьезно он всматривается в них.
Да, все они существуют, живут, страдают, радуются… Они — живые! Что это значит — живые?.. Они думают, что видят солнце, ощущают его светлую благодать, думают, что мыслят, любят друг друга, делают множество больших и малых дел… Но все это потому, что их заключили во время, и вне его они не могут мыслить и чувствовать. Они не принимают вечности, которая есть пустота и мрак… Время это только биение их сердца… заставь замолчать сердце, и время исчезнет, наступит вечность, а с нею абсолютная пустота. Если времени не будет — и ничего не будет!..