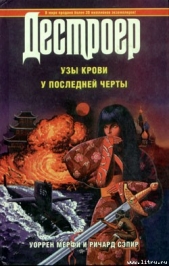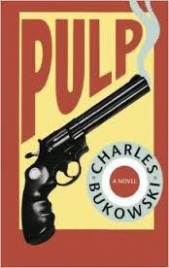У последней черты

У последней черты читать книгу онлайн
Книга о наступивших после первой русской революции годах упадка духа, сладострастного самоуслаждения и отчаянных самоубийств. На многих ее страницах запечатлелось растущее в писателе ощущение болезненности, человеческой своей хрупкости, недолговечности. Как и чахоточный студент Семенов из «Санина», со слезами умиления, а подчас и жалости к самому себе, глядит гордый духом, но хилый телом Арцыбашев на мир, словно в последний раз, и наглядеться не может, стремясь «одним взглядом охватить все и страдая, что не может до мельчайших подробностей удержать в памяти весь мир, с его небом, любовью, зеленью и синеющими воздушными далями».
Такие же чувства испытывали в те годы многие. В романе «У последней черты» как раз и отразились отчаяние, надломленность, разочарованность людей в идеалах борьбы, их жажда умиротворенности, душевного просияния и тишины после только что кроваво прошумевшего урагана революции.
Т. Ф. Прокопов «Возвращение Михаила Арцыбашева».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наумов спросил это с выражением явной насмешки.
— Нет, хотя вы и нарочно, но все-таки это очень любопытно, — сказал Краузе равнодушно и высокомерно.
Наумов засмеялся.
— Нет, это — вздор!.. Тут и ужас весь в том, что вздор, а этого вздора нельзя не принять!.. Что же это: человеческая логика не может не принять явного вздора?.. Тогда ведь и логика — вздор и разум — вздор?
— Да, — сказал корнет.
Наумов помолчал, пристально глядя на огонь свечи.
— А вы очень странный человек, Краузе! — другим тоном совершенно неожиданно сказал он. Краузе пошевелился и поднял брови.
— Я вас не понимаю… У вас есть что-то свое, но вы никогда не выскажетесь!.. И я думаю, что вы очень несчастный человек, Краузе… Только не могу понять, почему?.. На вид вы такой спокойный и даже равнодушный человек.
— У меня большая голова и маленькое сердце, — вдруг сказал корнет Краузе.
— Как? — удивленно переспросил Наумов.
— Большая голова и маленькое сердце, — спокойно и с достоинством повторил корнет, точно снисходя до желания Наумова еще раз услышать эту замечательную фразу. — Я все это думал, что вы… Только я не любил говорить… Вы слишком много говорите, по-моему!.. Мне не интересно столько говорить. Я тоже когда-то ненавидел, но теперь мне все равно… Пусть!.. Вздор?.. Пусть. Смысл и красота?.. Пусть!.. Пусть будет все, как есть… Мне все равно!.. Но когда-то я очень страдал от жизни и решил, что все страдания от слишком чувствительных человеческих чувств… Это я нескладно, но вы понимаете. И вот я решил вытравить в себе все чувства и выработать спокойствие ко всему. И я стал уничтожать в себе чувство и воспитывать спокойствие. Сначала было трудно, и все меня волновало… а потом стало все равно. Голова у меня стала расти, а сердце все меньше… Вы понимаете?.. И теперь у меня большая голова и совсем нет сердца. Я ничего не чувствую… Я думал, что так будет лучше, но вижу, что все равно… Просто стало пусто, но еще хуже: я умер, а все-таки живу… глупо!
Наумов смотрел на него заинтересованными, блестящими и даже жадными глазами.
— А вы когда-нибудь и в самом деле застрелитесь, Краузе! — сказал он вдруг с хищным выражением.
— Очень может быть, — равнодушно ответил корнет.
Наумов смотрел на него, не сводя глаз и как бы подстерегая каждое движение его лица.
Краузе, должно быть, неприятно почувствовал его взгляд. Он пошевелился беспокойно, переложил ногу на ногу и взглянул Наумову прямо в лицо. С минуту он только молча шевелил бровями, потом по его холодной, высокомерной физиономии что-то скользнуло — неожиданно хитрое и насмешливое.
— А знаете, — заговорил он очень медленно, с расстановкой, — вся ваша идея — вздор… и вы не верите в свою идею, а просто у вас громадное самолюбие, и вы готовы уничтожить мир только потому, что этого никто не смел еще думать, а вы посмели!..
По лицу Наумова скользнула какая-то судорога.
Краузе продолжал так же спокойно:
— Вам нравится говорить и думать, что вы смеете то, чего никто не смеет… Но это только слова!..
— Вы думаете? — со злобной иронией спросил Наумов.
— Я уверен… Только слова!.. А… а если бы вам пришлось привести эту мысль в исполнение, вы испугались бы и отказались бы от идеи.
— Вы думаете? — повторил Наумов, прищуриваясь.
— Да… Ну, вот если я спрошу вас: застрелиться ли мне?.. Тут, на ваших глазах?
Наумов нахмурился.
Ему показалось, что Краузе просто издевается над ним, и злоба вспыхнула в нем с потрясающей силой.
Это правда, что я долго и постоянно думал о самоубийстве, продолжал Краузе хладнокровно, — и вот я вас спрашиваю… действительно ли лучше застрелиться… Можете ли вы это сказать мне прямо, в глаза… Сейчас!
— Могу! — злобно ответил Наумов. — Прекрасно сделаете!
— Да?.. Хорошо… — сказал Краузе. Я сейчас… подождите…
Медленно и спокойно он опустил руку в карман рейтуз и вытащил, вытянул одну ногу, черный уродливый револьвер. Наумов криво улыбнулся и не двинулся с места. Он ни на одну минуту не поверил, что это серьезно, и чувствовал себя в глупом, смешном положении.
— Мальчишество, корнет! — сказал он с деланным спокойствием.
Краузе вдруг страшно побледнел и сжал зубы с такой силой, что скулы обозначились двумя острыми углами. В его спокойных холодных глазах засверкало настоящее внезапное бешенство.
— Я никогда не шучу! — сквозь зубы хрипло проговорил он, не сводя с Наумова такого острого ненавидящего взгляда, что инженеру показалось, будто корнет сошел с ума.
И вдруг сразу всем существом своим он понял, что Краузе не шутит. Холод прошел у него под волосами, но со страшным усилием над собою он остался неподвижен и наружно спокоен.
Краузе еще с минуту смотрел на него с тем же страшным непонятным бешенством. Они смотрели прямо в глаза друг другу, и эти два напряженные взгляда слились с такой силой, что все задрожало в обоих.
Но вдруг глаза Краузе потухли, брови опустились, он уронил судорожно сжатую, приподнятую с револьвером руку, встал и отвернулся к стене.
Наумов, все еще дрожа и бледнея, острым взглядом следил за каждым его движением. Потом нехорошо засмеялся.
— Так-то лучше! — сказал он злобно. — Спрячьте-ка вы свой револьвер и ложитесь спать… поздно!.. Да… многое легче сказать, чем сделать!
Краузе не ответил и стоял по-прежнему лицом к стене.
Наумов подождал, все так же злобно кривя губы, но, видя, что Краузе не обращает на него внимания, пожал плечами и стал одеваться.
— Пора домой, — сказал он. — До свиданья. Наумов надел пальто, шляпу, калоши, подошел к двери и отворил ее, но на пороге остановился, повернулся и сказал страшно медленно, мстительно отчеканивая каждое слово:
— А знаете, вы, может быть, и правы, но все-таки вы застрелитесь!.. Застрелитесь!.. Слышите? Рано или поздно, но вы застрелитесь… У вас такое лицо! До свиданья!.. Покойной ночи.
Краузе пошевелился, но не ответил.
Наумов, как будто весело и торжествующе засмеявшись, закрыл за собой дверь.
Слышно было, как денщик выпустил его на крыльцо. Волна свежего воздуха прошла по комнате. Свечи вспыхнули ярче, заметались и опять мертвенно вытянули свои желтые языки.
VII
Та же черная, волнующая и гудящая ночь встретила и охватила Наумова, как только он вышел на крыльцо.
Ветер бешено летал кругом и брызгал в лицо невидимыми каплями. Наумов ощупью спустился с крыльца и быстро пошел в темноте, ничего не видя кругом, кроме смутных силуэтов деревьев, бешено размахивающих головами.
Перед ним все еще стояло длинное белое лицо с косыми бровями.
«Идиот», — с непонятной злобой думал Наумов. Ноги его сами собой шли по грязи, ветер налетал словно всех сторон, но Наумов не замечал ничего. Голова его горела, сердце билось тревожно. Теперь он был убежден, что Краузе и сам не знал в ту минуту, шутит или нет. Это был волосок, на котором висела человеческая жизнь. Одного слова, одного движениям — например, если бы Наумов поверил и кинулся отнимать револьвер, — было бы достаточно, чтобы волосок порвался и Краузе выстрелил. И еще стало ему ясно, неопровержимо ясно, что Краузе застрелится, может быть, даже в эту же ночь.
«На этом человеке и в самом деле — печать смерти… Прирожденный самоубийца… Большая голова и маленькое сердце!.. Может быть, маленькая голова и слишком большое сердце!..» — подумал Наумов и язвительно улыбнулся в темноте.
Он сам замечал, что думает о Краузе с мстительной ненавистью, что ему хочется, чтобы нелепый корнет и в самом деле застрелился в эту же ночь. Наумов слишком хорошо знал, что Краузе поднял край завесы, за которой была его подлинная душа и которой он сам не смел поднять. Да, это так!.. В нем два человека: один верит в свою идею с упорством фанатика, хочет уничтожения и смерти, другой боится ее, задыхается от злобы, мстит всему за свою собственную трусость и свое собственное отчаяние. Даже в эту минуту, когда он подумал, что, может быть, как раз сейчас нелепый корнет приставляет револьвер к виску, он едва не побежал назад.