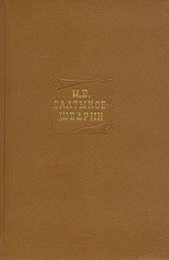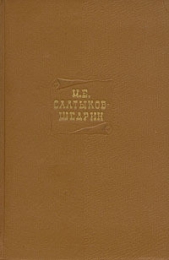Том 5. Критика и публицистика 1856-1864
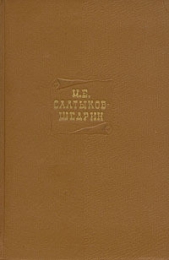
Том 5. Критика и публицистика 1856-1864 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В пятый том настоящего издания входят критика и публицистика Салтыкова 1856–1864 годов, кроме отнесенных в следующий, шестой том «хроник» из цикла «Наша общественная жизнь», примыкающих к этому циклу статей «Современные призраки», «Как кому угодно», «В деревне», а также материалов журнальной полемики Салтыкова с «Русским словом» и «Эпохой».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Зачем, — говорит он, — вы распускаете слухи, что Марья Степановна была в кабинете у Александра Павлыча? вы мерзавец! вы вор!
«Надобно заметить, — прибавляет корреспондент, — что эта женщина очень хорошенькая и притом необыкновенной нравственности».
С. не отвечает (желательно было бы видеть хозяев — свидетелей этой сцены! чай, «хи-хи-хи! да ха-ха-ха!»). Тогда Б. повторил это несколько раз, «и ответа не последовало». Затем приводим подлинником слова самого корреспондента. «Когда же Б. отошел от него (от посредника), то посредник С. бросившись на Александра Б., ударил его по уху. Александр Б., подвернувшись, схватил посредника Григория Павловича С. одною рукою за волосы, другою колотил по зубам; потом, бросивши его на пол, еще повторил ту же самую зубную операцию. Михаил Иваныч Б. (письмоводитель посредника) и сам хозяин З. бросились оборонять; последний из них от испуга упал в обморок (догадался!), дамы (так тут и нежный пол присутствовал?) подняли крик. Посредник С., лежа в объясненном положении, стремился сделать выстрел из револьвера, но Степан Б. (брат дантиста Александра Б.) вырвал из рук таковый (истинно братская любовь!), а у него вырвала из рук какая-то дама»…
Мы не думаем, чтобы нужно было выводить какое-либо заключение из этого факта. Но не можем скрыть, что нам, в этом деле, всего более жалким кажется г. «Не тронь меня».
Драматурги-паразиты во Франции *
Les ganaches [49], par Victorien Sardou.
Le fils de Giboyer, par Émile Augier.
Пускай нам доказывают, пускай убеждают нас, что человечество не может останавливаться в своем развитии *, а тем менее падать, и что в этом смысле выражение: «падение древнего мира», сопоставленное выражению: «наступление эпохи варварства» — есть не более как близорукий парадокс, не более как фраза, лишенная всякого значения. Мы верим этим убеждениям только отчасти, то есть в той мере, в какой они относятся до истории человечества в ее общих очертаниях, в ее конечных результатах. Тут действительно выходит так, что результаты оправдывают средства и что, на практике, как бы осуществляется пресловутое изречение доктора Панглосса: все идет к лучшему в лучшем из миров! * Тут самая неурядица, самая нравственная анархия, характеризующие некоторые эпохи истории человечества, кажутся легко объяснимыми вторжением новых сил, новых жизненных элементов, которые еще не опознали себя и потому пребывают некоторое время в брожении. Да, хорошо живется человечеству… в общем фокусе! всё-то успех, всё-то движение вперед! Даже тьма, даже искажение человеческого образа, даже полнейшее нравственное рабство — и то движение вперед!
Но увы! идея «человечества» едва-едва начинает проникать только в историю человечества, но и не думает еще заглядывать в самую жизнь человечества. Увы! человечество живет не общими чертами, питается не отдаленными результатами, которые когда-нибудь оправдают близкие страдания. Увы! оно живет даже не всею своею массой, а только осколками этой массы, роковою силою взлетающими на верх… Оно выносит на себе, оно выкупает ценою своей крови все эти замешательства, все эти нравственные анархии, которые в будущем сулят богатую жатву, все эти «средства», которые, впоследствии, будут «оправданы результатом»…
Вот в этом-то ближайшем и незаносчивом смысле, выражение «владычество варварства», следующее непосредственно за выражением «падение общества», становится уж совсем не столь фальшивым, как это кажется с первого взгляда, и если несправедливо употреблять его в абсолютном значении, то весьма и весьма позволительно применять к данному моменту общественного развития.
Быть может, читателю покажется несколько странным, что мы начинаем так громко по поводу столь негромких явлений, как гг. Сарду и Ожье, однако ж слова наши вовсе не заключают в себе ни напыщенности, ни преувеличения. Если явления эти и действительно ничтожны сами по себе, то они занимательны для нас, как характеристические признаки, как порожденье известного жизненного строя, и в этом смысле чем они ничтожнее, чем беднее содержанием, тем драгоценнее для наблюдателя. Это явления, неизгладимыми и постыдными клеймами ложащиеся на целую эпоху.
Мысль человеческая, с той самой минуты, как она сознает в себе стремление обмирщиться и сделаться общим достоянием человечества, постоянно ищет преодолеть все преграды, которые представляются ей на пути к этой цели, неустанно ищет свободы. Но эта свобода достается не легко, и борьба, которая ей предшествует, проходит через многие фазисы.
Прежде всего, мысль, еще робкая и слабая, имеет дело с простым и несложным гнетом грубой силы. Тут мелодия развивается просто: с одной стороны ясное и не терпящее отговорок запрещение, вооруженное целым арсеналом карательных мер, с другой стороны — покорность и безмолвие. Как ни тяжки подобные моменты в истории мысли, но в них есть, по крайней мере, какая-то мрачная логика. Мысль преследуется гуртом, без различия оттенков ее; принимается за исходный пункт, что мысль, какова бы она ни была, заключает в себе яд. Конечно, такой взгляд на мысль безотраден, но, по крайней мере, он имеет за себя достоинство определительности. Он даже, может быть, не безвыгоден и для самой мысли, в том смысле, что вынуждает ее опознаться и окрепнуть. Мысль безмолвствует, но не умирает; во всяком случае, она не растлевается. Общество, на котором отражается тот же гнет, который царит и над мыслью, чувствует и понимает это. И, несмотря на темные извороты, к которым прибегает мысль для своего выражения, несмотря на покровы, которыми она одевает себя, чуткое ухо общества схватывает на лету недозвучавшую ноту, чуткий ум невольно подсказывает недосказанное слово…
Но как ни силен, как ни всемогущ кажется гнет грубой силы, а и он не может быть вечным. То неразнообразное внутреннее содержание, с помощью которого обеспечивалась живучесть силы, исчерпывается само собою, исчерпывается потому, что дело скоро доходит до геркулесовых столпов, дальше которых идти некуда. Гнет сам растлевается потребностью уступок, потребностью некоторой свободы, на крупицах которой он хочет поставить для себя пьедестал в новом вкусе. Этот второй период, в который вступает мысль, самый для нее пагубный; быть может, что в общем ходе вещей он и представляется прогрессом, но сам по себе, но в данный момент этот период есть период самого тяжкого, самого неистового мысленного разврата. Мысль, бывшая до тех пор силой, несмотря на слабость свою, мысль, которая до тех пор группировала около себя, во имя своего угнетения, все лучшие соки общества, мгновенно мельчает и растлевается; она становится более ясною и доступною (однако не вполне же ясною, не вполне же доступною), но вместе с тем нисходит на степень ремесла, делается орудием в руках проходимцев и выжиг, утрачивает свою чистоту и брезгливость, одним словом, становится доступною каким-то особенным соображениям, которые в просторечии именуются подкупом. Как ни горек столь быстрый переход от полного безмолвия к полному разврату, но он не необъясним. Потребность свободы слишком живая потребность, чтобы не желать воспользоваться этим даром хотя в той степени, насколько возможно это физически, а так как свобода дается только на известное расстояние и на известных условиях, то и последствия принятия подобной свободы очевидны. Тут, собственно, нет свободы мысли, а только есть снисхождение к известному оттенку мысли, есть попытка допустить именно этот, а не другой оттенок к участию в общем течении жизни. Натурально, что, однажды став на эту покатость, однажды приняв свободу не как законный дар, а как подачку, мысль спускается все ниже и ниже, следуя в этом случае единственно законам тяготения; натурально также, что она соблазняется и, вместо того чтоб иметь в виду одну истину, одну справедливость, увлекается совсем другими соображениями; вместо того чтоб анализировать явления жизни, она принимает тон исключительно дифирамбический. Поднимается общий гвалт; являются публицисты, которые знать ничего не хотят; являются беллетристы, которые знать ничего не хотят; все сыты, все накормлены, все пляшут, потому что нет ниоткуда отпора, потому что высказываться ясно может только один паразитский, сыто-ликующий унисон *…Образуется даже особый какой-то слог для выражения мыслей; всё «позволительно думать», да «смеем надеяться» *, да еще «не знаем, смеем ли мы надеяться»; одним словом, сквозь каждое слово так и сочится: «мы, дескать, может быть, и врем, но, если нужно, мы будем врать и наоборот!» А честная мысль все-таки не умирает; несмотря на свое безмолвие, она протестует своим отсутствием из общего игрища, устроенного подкупною мыслью; она подрывает унисон уже тем, что предоставляет его собственному однообразию, собственной его пошлости. Унисон видит это; он даже желал бы, чтоб ему возражали, чтобы можно было устроить нечто вроде примерного сражения, но честная мысль благоразумно от этого воздерживается и не без удовольствия усматривает, как унисон падает под тяжестью собственного бессилия.