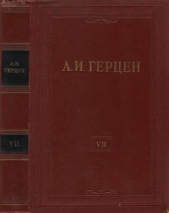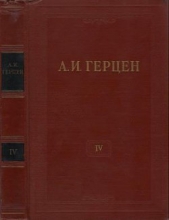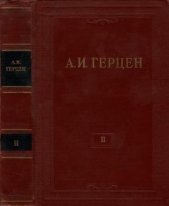Том 1. Произведения 1829-1841 годов
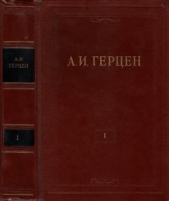
Том 1. Произведения 1829-1841 годов читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так оканчивался период прозябения моей жизни. Вот предыдущее, с которым я вошел в пропилеи юности. Маршаль завещал мне любовь к изящной форме, любовь к Греции и Риму, логическую ясность, историю французской литературы и «Art poétique» Буало, которого первую песнь помню до сих пор; Василий Евдокимович завещал поклонение Пушкину и юной литературе, метафизическую неясность романтизма и тетрадь писанных стихов, которые я еще лучше вытвердил на память, нежели Буало; Темира – искреннее, теплое чувство любви и дружбы, слезу о «Векфильдском священнике» и потом о ней самой, когда она осенью уехала в Меленки. Ergo [208], с одной стороны, классицизм в виде Маршаля, с другой – романтизм в виде Пациферского, и жизнь в виде Темиры, – а в средоточии всего я сам, мальчик пылкий, готовый ко всяким впечатлениям, не по летам умудрившийся, развитый отчасти насильственно или, вернее, искусственно чтением романов и вечным одиночеством.
Так продолжалась моя жизнь до пятнадцатого года.
II
Юность
Respekt vor den Träumen deiner Jugend!
Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus!.. [210]
Прелестное время в развитии человека, когда дитя сознает себя юношею и требует в первый раз доли во всем человеческом: деятельность кипит, сердце бьется, кровь горяча, сил много, а мир так хорош, нов, светел, исполнен торжества, ликования, жизни… Удаль Ахиллеса и мечтательность Позы наполняют душу. Время благородных увлечений, самопожертвований, платонизма, пламенной любви к человечеству, беспредельной дружбы; блестящий пролог, за которым часто, часто следует пошлая мещанская драма.
Разум восходит, но, проходя через облака фантазий, он окрашивает, как восходящее солнце, пурпуром весь мир. Освещенье истинное, которое исчезает, должно исчезнуть, но прелестное, как летнее утро на берегу моря. О юность, юность!..
Беззаботно отдался я стремительным волнам; они увлекли меня далеко за пределы тихого русла частной жизни! Мне нравились упругие волны, бесконечность; будущее рисовалось каким-то ипподромом, в конце которого ожидает стоустая еда и дева любви, венок лавровый и венок миртовый; я предчувствовал, как моя жизнь вплетется блестящей пасмой в жизнь человечества, воображал себя великим, доблестным… сердце раздавалось, голова кружилась… Право, хороша была юность! Она прошла; жизнь не кипит больше, как пенящееся вино; элементы души приходят в равновесие, тихнут; наступает совершеннолетний возраст, и да будет благословенно и тогдашнее бешеное кипение и нынешняя предвозвестница гармонии! Каждый момент жизни хорош, лишь бы он был верен себе; дурно, если он является не в своем виде. Не люблю я скромных, чопорных, образцовых молодых людей, они мне напоминают Алексея Степановича Молчалина; они не постигли жизни, они не питали теплой кровью своего сердца отрадных верований не рвались участвовать в мировых подвигах. Они не жили надеждами на великое призвание, они не лили слез горести при виде несчастия и слез восторга, созерцая изящное, они не отдавались бурному восторгу оргии, у них не было потребности друга, – и не полюбит их дева любовью истинной; их удел – утонуть с головою в толпе. Пусть юноши будут юношами. Совершеннолетие покажет, что провидение не отдало так много во власть каждого человека; что человечество развивается по своей мировой логике, в которой нельзя перескочить через термин в угоду индивидуальной воле; совершеннолетие покажет необходимость частной жизни; почка, принадлежавшая человечеству, разовьется в отдельную ветвь, но, как говорит Жуковский о волне, –
Душа, однажды предавшаяся универсальной жизни, высоким интересам, и в практическом мире будет выше толпы, симпатичнее к изящному; она не забудет моря и его пространства… Но я забываю себя; вот что значит заговорить о юности.
Темира уехала в Меленки. Я долго смотрел на вороты, пропустившие коляско-бричку, в которой повезли ее; день бы мертво-осенний. Печально воротился я в свою комнатку развернул книгу. Старый друг… опять книга, одна книга осталась товарищем; я принялся тщательно перечитывать греческую и римскую историю. Разумеется, я за историю принялся не так, как за книгу народов, зерцало того и сего, а опять как за роман, и читал ее по той же методе, то есть сам выступая на сцену в акрополисе и на форуме. Еще больше разумеется, что Греция и Рим, восстановленные по Сегюру, были нелепы, но живы и соответствовали тогдашним потребностям. Театральных натяжек, всех этих Курциев, бросающихся в пропасти, вовсе не существующие, Сцевол, жгущих себе руки по локоть, и проч. я не замечал, а гражданские добродетели – их понимал. Напрасно нынче восстают против прежней методы пространно преподавать детям древнюю историю, это – эстетическая школа нравственности. Великие люди Греции и Рима имеют в себе ту поражающую, пластическую, художественную красоту, которая навек отпечатлевается в юной душе. Оттого-то эти величественные тени Фемистокла, Перикла, Александра провожают нас через всю жизнь, так, как их самих провожали величественные образы Зевса, Аполлона. В Греции все было так проникнуто изящным, что самые великие люди ее похожи на художественные произведения. Не напоминают ли они собою, например, светлый мир греческого зодчества? Та же ясность, гармония, простота, юношество, благодатное небо, чистая детская совесть; даже черты лица Плутарховых героев так же дивно изящны, открыты, исполнены мысли, как фронтоны и портики Парфенона. Самое триединое зодчество Греции имеет параллель с героями ее трех эпох; так изящное тесно спаяно было у них с их жизнию. Гомерические герои – не дорические ли это колонны, твердые, безыскусные? Герои персидских войн и пелопоннесской не сродни ли ионическому стилю, так, как Алкивиад изнеженный – тонкой, кудрявой коринфской колонне? Пусть же встречают эти высоко изящные статуи юношу при первом шаге его в область сознания, с высоты величия своего вперят ему первые уроки гражданских добродетелей…
Сильно действовало на меня чтение греческой и римской тории. Я скорбел о том, что этот мир добродетелей и энергии давно схоронен, плакал на его могиле, как вдруг более внимательное чтение одного автора, бывшего в моих руках, доказало мне, что и тот мир, который окружает меня, в котором я живу, не изъят доблестного и великого. Открытие это сделало переворот в моем бытии.
Шиллер! Благословляю тебя, тебе обязан я святыми минутами начальной юности! Сколько слез лилось из глаз моих на твои поэмы! Какой алтарь я воздвигнул тебе в душе моей! Ты – по превосходству поэт юношества. Тот же мечтательный взор, обращенный на одно будущее – «туда, туда!»; те же чувства благородные, энергические, увлекательные; та же любовь к людям и та же симпатия к современности… Однажды взяв Шиллера в руки, я не покидал его, и теперь, в грустные минуты, его чистая песнь врачует меня. Долго ставил я Гёте ниже его. Для того, чтоб уметь понимать Гёте и Шекспира, надобно, чтоб все способности развернулись, надобно познакомиться с жизнию, надобны грозные опыты, надобно пережить долю страданий Фауста, Гамлета, Отелло; стремленье к добродетели, горячая симпатия к высокому достаточны, чтоб сочувствовать Шиллеру. Я боялся Гёте; он оскорблял меня своим пренебрежением, своим несимпатизированием со мною – симпатии со вселенной я понять тогда не мог. Пусть, думал я, Гёте – море, на дне которого невесть какие драгоценности, я люблю лучше германскую реку, этот Рейн, льющийся между феодальными замками и виноградниками, Рейн, свидетель тридцатилетней войны, отражающий Альпы и облака, покрывающие их вершины. Я забывал тогда, что река вливается тоже в море, в землеобнимающий океан, равно нераздельный с небом и с землею. Гораздо после мощный Гёте увлек меня; я тогда еще не вполне понял его, но почувствовал его морскую волну, его глубину, его пространство и (болезнь юности – никогда не знать веса и меры!) на Шиллера взглянул иначе, тем взглядом, которым юноша, приехавший в отпуск, смотрит на добрые черты старца-воспитателя, привыкнув к строгому лицу своего начальника, – немножко вниз, немножко с благосклонностью. Но я скоро опомнился, покраснел от своей неблагодарности и с горячими слезами раскаяния бросился в объятия Шиллера. Им обоим не тесно было в мире, – не тесно будет и в моей груди; они были друзьями – такими да идут в потомство. Но в ту эпоху, о которой идет речь, я никак не мог понимать Гёте: у него в груди не билось так человечески нежное сердце, как у Шиллера. Шиллер с своим Максом, Дон-Карлосом жил в одной сфере со мною, – как же мне было не понимать его? Суха душа того человека, который в юности не любил Шиллера, завяла у того, кто любил, да перестал!