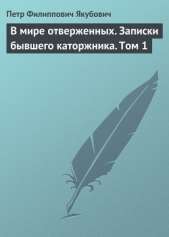В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
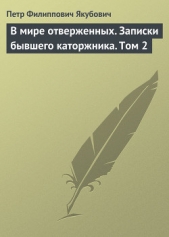
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 читать книгу онлайн
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы. Существовал и другой также закон, в силу которого человек, «забритый» в солдаты, становился уже мертвым человеком, в редких только случаях возвращавшимся к прежней свободной жизни (николаевская служба продолжалась четверть века), и не мудрено, что, по словам поэта, «ужас народа при слове набор подобен был ужасу казни»…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Задетые за живое, Луньков и Сохатый вступали между собой в оборонительный союз и горячо схватывались с Годуновым, но, краснобай по натуре, он никогда не лез за словом в карман и в этих спорах всегда загонял своих противников, как выражаются арестанты, в самый маленький пузырек… Когда Годунов тоже принялся наконец за писание мемуаров, то он, по-видимому, страшно волновался и тетрадкам своим придавал огромную цену, быть может, потому еще, что самый процесс писания давался ему довольно трудно, слова для выражения мыслей подыскивались нелегко. Зато, когда труд был доведен до последней точки и прочитанные мною тетради отнесены были в цейхгауз и там спрятаны в моих вещах в ожидании лучших времен, — Годунов сиял, как никогда, и часто ораторствовал перед камерой:
— Пусть только Иван Николаевич напечатает когда-нибудь мои записки, тогда мы увидим, что из этого выйдет! Тогда поймут, что такое жизнь ссыльного человека! Потому в настоящее время ничего этого не знают. Думают, что мы идем на преступление так себе, с легкой душой… Так пусть же знают, что ссыльный тоже человек, что у него иной раз кровью сердце обливается, — когда он поднимает руку на чужое добро! Пусть узнают, кто настоящий виновник всего зла!
Сомнительно, конечно, чтобы эти мысли и речи имели достаточное отношение к действительному содержанию «записок», но важно то, что Годунов мечтал поведать обществу историю своих ошибок и злоключений…
Мне не раз уже приходилось определять этого человека как тюремного дипломата, человека себе на уме, а также изрядного хвастуна и самодовола. Казалось бы, эти характерные личные качества должны были неблагоприятно отразиться и на записках, лишив их прежде всего самого главного и ценного свойства — правдивости.
Но что всегда поражало меня, в людях малокультурных — как только берут они перо в руки, так сейчас становятся большею частью замечательно правдивыми и откровенными. Происходит это, быть может, оттого, что, не имея никакого понятия о так называемой красоте формы, художественности изложения, они встречают и меньше соблазнов отступать от правды, тогда как образованные писатели часто жертвуют ею в погоне за красным словцом, за округленностью периодов и прочими аксессуарами литературности… Личный характер Годунова, правда, отражался на его произведении, но в форме не только невинной, а почти комической: чувство самоуважения до того проникало в его записки, несмотря на их покаянный тон, что оказывалось — его, Годунова, любили и уважали решительно все, кто только сталкивался с ним в жизни, не исключая чинов полиции и чуть ли не тех даже, кто бил его и порол розгами… Он вообще ужасно любит себя и чуть не на каждой странице проливает слезы о своей злосчастной судьбе, эта однобокая чувствительность доходит до того, что, описав, как однажды ради грабежа ему пришлось убить человека, он тоже плачет… только, увы, не о жертве, а о самом себе!
И тем не менее фактическая сторона рассказа производила, повторяю, впечатление несомненной, искренней правды, тем более что герой записок, в общем, не обелял, а скорее обличал и бичевал себя. В скобках маленькое замечание: этот самобичующий тон сильно напоминал записки несчастного Шустера; многие мысли и даже самые выражения как будто были заимствованы одним автором у другого, хотя на деле люди эти никогда даже не разговаривали между собой. Этот факт кажется мне в высшей степени характерным.
Зато в другом отношении жизнь Годунова напоминает мне жизнь Пенкина: как того, так и другого в каторгу привели какие-то роковые силы, таившиеся в глубине их души; за неимением более подходящего слова я назвал бы эту силу — тоскою… Какая-то природная неугомонность и ненасытность ни тому, ни другому не давала примириться со спокойной и ровной действительностью, толкая на борьбу с нею… Но разница натур сказалась в различии форм этой борьбы. Пенкин имел натуру сильную, властную и вместе с тем глубоко правдивую. В другой исторический момент и при других общественных условиях из такого человека легко мог бы выработаться общественный или религиозный протестант-фанатик, но наша серенькая действительность создала из него простого пьяницу-буяна и затем невольного убийцу. Натура более мелкая и менее чистая толкнула Годунова на путь легкой наживы, сделав из него жулика-бродягу и, наконец, корыстного убийцу.
Годунов — мужчина еще, можно сказать, в цвете лет. Он недурен собою, брюнет с окладистой бородой и умным, широким лбом, степенный в манерах, словах и поступках, большой краснобай и резонер. Он, как видит читатель, — сам прекрасно анализирует свое прошлое и знает, что шел по дурному пути. Но возможно ли для него отыскать другую дорогу — дорогу честного труда и мирного благополучия по окончании каторжного срока и по выходе на поселение?
По совести сказать, я не думаю этого, читатель… Темная дорога этой печальной, поистине кошмарной жизни точно, злым роком намечена была еще в самые ранние годы, и последняя ее роковая точка, наверное, не за горами!.. Дай, конечно, бог, чтобы я ошибся.
XVII. Кошмары
Всю последнюю зиму я бурил в верхней шахте. За три с лишком года пребывания моего в Шелае она углубилась, впрочем, не больше как на одну сажень. Дело в том, что бурение часто прерывалось за недостатком в тюрьме арестантов, а когда рабочие руки снова отыскивались, шахта оказывалась уже настолько погруженной в воду, что последнюю приходилось недели две откачивать. Начиналась опять сказка про белого бычка. Тем не менее при Петушкове работы в руднике подвигались несравненно успешнее, чем при его предшественнике. Этот человек не только умел пленять кобылку либеральным заигрыванием, но и держать ее в ежовых рукавицах, брать с арестантов все, что с них полагалось брать. Хотя, при мне и не случалось, чтобы он отсылал кого-либо к Шестиглазому «с запиской», но почему-то его побаивались.
— Да лучше б он меня — душа из него вон! — в карей, посадил, чем языком своим мягким жилы из нутра выматывал! — отзывались о Петушкове те, на кого обрушивалась порой гроза его ласкового красноречия. — Чего только не наскажет ведь, собака его заешь!.. И насчет поштеления закинет — Монахов, мол, лишит — и насчет того, что до Шестиглавого через нашего же брата кобылку донесется: тогда его, мол, — самого прогонят, а нам всем хуже станет. Жалобно таково да тоскливо на душе станет. Нет, куда легче все десять верхов в самой твердой породе отбухать, чем его жалобы слушать!
Нельзя, однако, сказать, чтобы Петушков и к прямым угрозам не прибегал. Я сам видывал, каким злым огоньком загорались его чахоточные глаза, когда он с деланной мягкостью и кротостью в голосе объявлял лодырничавшим, по его мнению, арестантам, что не станет больше брать их в рудник. А это для большинства кобылки было одной из самых внушительных угроз, так как рудник, действительно, имел много преимуществ перед всякой другой работой. Прежде всего здесь можно было хоть на короткое время забыть о том давившем ум и сердце гнете шестиглазовского «прижима», который ежесекундно давал знать о себе на всех так называемых домашних работах, происходивших вблизи тюремных стен; на лоне природы тут во всех отношениях легче дышалось, не говоря уже о том, что и самая работа, всегда урочная, была несравненно легче. Немаловажную, разумеется, роль в предпочтении арестантами рудника играло также и денежное поощрение, которое Монахов, хотя и редко, все же выдавал: больше всех получали кузнец, столяр, плотники (крепильщики), но перепадало кое-что и простым рабочим, бурильщикам и даже буроносам. Даже я, последний из последних рабочих, за несколько лет пребывания в Шелайском руднике получил около шести рублей… Заработанные таким путем деньги горное ведомство передавало в тюремную контору, и на ближайшей вечерней поверке Шестиглазый громогласно прочитывал, за кем сколько было записано. Хорошо помню, какое удовольствие испытал я, в первый раз в жизни заработав несколько рублей чисто физическим трудом…
В большинстве шелайских забоев почва была необыкновенно мягкая. Однако выпадали недели и даже целые месяцы, когда камень вдруг начинал, по выражению арестантов, дурить: он становился таким твердым, что в одну минуту расплющивались самые острые буры; буроносы не успевали таскать их в кузницу; Пальчиков не находил на своем энергичном языке достаточно слов для выражения негодования против «закона, веры и жизни». Случалось в такие незадачливые дни, что даже силачи, вроде Быкова или Сохатого, выбуривали не больше шести вершков, за весь день почти не отходя прочь от забоя, а менее сильные и умелые бурильщики не одолевали и четырех вершков. Обо мне нечего и говорить: я помню случаи, когда за два, за три дня самой адски прилежной работы я едва успевал выстукать полтора-два вершка!.. Руки при этом почти отказывались служить и дрожали, как у горького пьяницы, а правое плечо так мучительно ныло, словно после серьезного вывиха. В таких твердых породах не помогало даже и знаменитое арестантское средство — бурить с помощью «тепленькой водицы»: средство это, казалось, только ухудшало дело. Я насчитал однажды, что молоток Быкова со всего размаха и без роздыха опустился на бур восемьсот раз, и, погрузив после того в шпур чистку, Быков с проклятием объявил, что почти ни капли муки, не набилось… Вообще в такие дни шахте приходилось выслушивать более нежели достаточное количество самых заковыристо-сильных выражений и добрых пожеланий!.. Арестанты были мрачны, сердиты и до того грозно-молчаливы, что я остерегался даже обращаться к ним с какими-либо вопросами; настроение у всех было тягостное, подавленное, точно в присутствии покойника. О песнях в такое время забывали и думать, и только молотки нервно и упрямо продолжали свою однообразную щелкотню. Под могучими ударами настоящих бурильщиков без конца и без передышки раздавалось напряженное, гневное «тук! тук! тук!». У меня, напротив, выходило унылое, минорное «тук да тук! тук да тук!» — и под эти минорные звуки сама собою складывалась грустная песня: