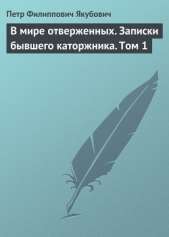В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
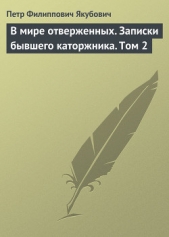
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 читать книгу онлайн
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы. Существовал и другой также закон, в силу которого человек, «забритый» в солдаты, становился уже мертвым человеком, в редких только случаях возвращавшимся к прежней свободной жизни (николаевская служба продолжалась четверть века), и не мудрено, что, по словам поэта, «ужас народа при слове набор подобен был ужасу казни»…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Некоторые из моих учеников-приятелей не. только «не прочь были», но положительно сгорали жаждой попасть в мои будущие записки! Говорю это без тени преувеличения. Особенно часто вспоминается мне из этих мечтателей-славолюбцев один арестант по фамилии Пенкин, во всех отношениях производивший впечатление человека выдающегося и необыкновенно симпатичного. Даже и внешность у него была незаурядная. Длинные белокурые усы свешивались вниз, прикрывая собой красивые губы, в углах которых лежала печать постоянной грустной иронии, светившейся также: и в умных синих глазах. Низы щек уже подернуты были заметными морщинами, хотя Пенкину было не более сорока трех лет; когда-то он был, по-видимому, человеком очень веселого нрава, потому что и теперь еще не прочь был пошутить, побалагурить, рассказать смешной анекдот, но главной чертой его была теперь уже не веселость, а тихая грусть, задумчивая серьезность. Да и мудрено ли? Ровно двадцать три года сидел уже Пенкин в тюрьме, и лишь один раз за все это время ненадолго «срывался», для того чтобы еще прочнее засесть после того «в стены каменные». Признаюсь, меня охватывала каждый раз дрожь ужаса, когда я думал, что этот человек не знает свободы с начала 1870 года, то есть с того года, в который я едва начал сознательную человеческую жизнь, маленьким десятилетним мальчиком готовясь поступить в гимназию! Ведь с тех пор прошла, думалось мне, вечность не только для отдельных людей, но и для целых поколений, для целых народов! А человек, живой, способный страдать и чувствовать человек, все это время провел в душной, кошмарной атмосфере каторжных тюрем! Но и в будущем положение Пенкина казалось вполне безнадежным. Ему двадцатипятилетний каторжный срок считался почему-то со времени вторичного осуждения после побега, и вольной команды, по объяснению бравого капитана, ему совсем не полагалось.
Вся тюрьма поголовно относилась к нему с уважением, и слово Пенкина во время всяких арестантских треволнений (в которых он, впрочем, не любил принимать участия) отличалось в ее глазах особенной вескостью; ценило его и само начальство как тихого, солидного арестанта, прекрасного к тому же мастерового-плотника.
К сожалению, мне как-то ни разу не удавалось жить с Пенкиным в одном номере. Еще задолго до того времени, как по тюрьме прошла волна повального увлечения писательством, он не раз говаривал мне, оставаясь со мной наедине в горной светличке:
— Вот мою бы вам жизнь прослушать, Миколаич! Думаю, не пожалели б. Потому не всякому столько пережить удается. И по воле и в тюремной участи чего только я не видел, чего не испытал… Эх, кабы все это описать! Некому только описать-то (сам Пенкин был малограмотен)… Умру — так все и пропадет, словно ничего и не было.
Эту мысль и это сожаление много раз высказывал Пенкин, и нужно ли говорить, что я от души был бы рад выслушать рассказ об его жизни, тем более что, как я слыхал от арестантов, он был бесподобным рассказчиком; но обстоятельства складывались для этого как-то особенно неблагоприятно, и случая долго не выходило. Наконец однажды в нашей камере понадобилась какая-то небольшая переделка, и всех ее обитателей, а в том числе и меня, начальство «перегнало» на одни сутки как раз в тот номер, где жил Пенкин. Я поспешил, разумеется, воспользоваться этим случаем и попросил Пенкина, не откладывая, приняться за рассказ. Он не стал кобениться и, усевшись после вечерней поверки рядом со мною, начал говорить своим тихим, задушевным, приятно певучим голосом саратовца, рассказывая точно не собственную жизнь, а где-то слышанную или вычитанную из книги стародавнюю быль или сказку. Не прошло и нескольких минут, как рассказ этот захватил меня, и я уже не слушал, а буквально горел, весь отдавшись во власть этого странного человека, продолжавшего говорить мерно-спокойным, слегка только грустным голосом. Да и не я один увлекся — в камере наступила гробовая тишина — все слушали Пенкина с пожирающим вниманием, и когда рассказ наконец окончился часа в два ночи, я чувствовал себя потрясенным до глубины души, до дрожи во всем теле… Мне казалось в ту минуту, что никогда в жизни ни одна книга не производила на меня такого сильного, такого жизненного впечатления; этот рассказ был сама действительность, ужасная, полная всякого рода кошмаров, похожих на мрачную сказку, но как бы живьем запечатлевшаяся в памяти пережившего ее человека и теперь вновь воскресшая перед изумленным слушателем… Мне казалось, что запиши я тогда же дословно этот рассказ, полный беспощадно правдивого самоанализа, — он был бы замечательным литературным произведением, которое произвело бы и на читателей такое же сильное впечатление. Но я его, к сожалению, не записал… Две-три недели прошло с той памятной ночи, а я все собирался занести слышанное на бумагу — и никак не находил духу сделать это; то, что выходило из-под моего карандаша, было так бледно, так вяло, что мне становилось досадно и стыдно… А Пенкин несколько раз обращался ко мне с вопросом:
— Ну что, Миколаич, все еще не записали?
И когда я горячо принимался обнадеживать его, что вскоре непременно исполню обещание, он отвечал, грустно усмехаясь:
— Где, поди, записать! Так все и пропадет, словно ничего и не было…
И он оказался прав в своем пессимизме. Прошли годы, а я так и не исполнил своего задушевного желания. Да и исполнить его становилось с каждым месяцем все труднее и труднее, так как многое постепенно и незаметно забывалось, из памяти то и дело выскальзывали те или другие важные черточки и штрихи, и в настоящее время, когда я помню уже один только голый, бледный остов рассказа, когда-то произведшего на меня столь глубокое впечатление, я уже не могу отважиться на попытку вдохнуть в этот остов живое дыхание, расцветить мертвый труп красками жизни. И если Пенкину не удастся когда-либо встретить другого образованного человека, который будет счастливее меня, то его горькое пророчество исполнится в самом буквальном смысле, и поучительная, богатая внешним и внутренним содержанием жизнь исчезнет бесследно, словно ее никогда и не было…
Гибелью и проклятием этого человека был прежде всего тот порок, от которого гибнет на Руси столько лучших, талантливейших людей: страсть к водке овладела им еще в ранней юности. Но к этому прибавлялась еще бурная строптивость темперамента, принимавшая под влиянием винных паров размеры чего-то таинственного, напоминавшего черты наших былинных героев, — строптивость, ни за что не хотевшая считаться с ложью установившейся морали и обычаев; вполне естественно, что мелкая, буднично-пошлая современность, в свою очередь, не могла мириться с колющей ей глаза правдивостью и бунтарскими выходками этой неугомонной натуры. На каждом шагу, в среде даже самых близких людей, создавались все новые и новые враги, и трагическая развязка являлась почти столь же неизбежной, как древний рок: в пьяном виде Пенкин зарезал родного дядю и двоюродного брата… {36}
Дальнейшая судьба Пенкина сложилась не менее печально, чем и вся его жизнь. Каким-то чудом (все называли это чудом) Лучезаров выпустил его в вольную команду, и восторгам Пенкина не было пределов. По-видимому, он искренно мечтал начать новую жизнь… Но вот пронесся откуда-то слух, быть может и ложный, будто выпустили его по недоразумению и скоро опять посадят в тюрьму. Тогда в один бурный осенний вечер надзиратели, явившиеся в вольнокомандческий барак на поверку, не нашли там Пенкина — он скрылся. Меня уже не было в Шелайском руднике, когда я узнал, что около Верхнеудинска его поймали и что он снова отправлен в каторгу…
Не менее страстным желанием поведать свету о своем бурном прошлом отличался и Годунов. С глубоким презрением глядел он на то, что я интересуюсь рассказами такой тюремной мелочи, как, например, Луньков, и говорил ему с обычным самодовольством:
— Ежели сотню, тыщу таких описаний собрать, как твоя жизнь или жизнь какого-нибудь Сохатого, то все они вместе не будут стоить и одной страницы биографии моей жизни. Потому я по совести могу сказать, что вкусил и сладкого и горького, сквозь железные и медные трубы прошел, и обо мне не мешало бы в журнал написать. Ну, а вы что с Сохатым? Вороний корм — ничего больше.