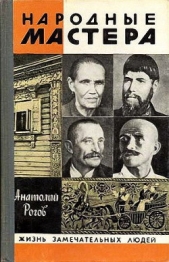Выбор

Выбор читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Желаешь ли сподобиться ангельского и вчинену быти лику монашествующих? - И, не дожидаясь ответа, дальше: - Потерпишь ли всякую скорбь и тесноту жития монашеского ради Царствия Небесного?
Но тут она, на миг опомнившись, вырвалась из рук молодцов и нечеловечески пронзительно завопила:
- Нет! Нет! Нет! Не желаю!
Наверное, даже через толстые стены, на воле был слышен этот жуткий, душераздирающий вопль, не мог быть не слышен.
И все творившие зло, все бесновавшиеся опять опешили, кто-то попятился, а она в эти мгновения сгребла со стола мантию и куколь, рвала их, бросила, топая, под ноги, но была снова схвачена уже многими руками, и последнее, что отчетливо видела, что Шигона снова взметнул над ней плетку - дальше сознание оборвалось: она вмиг размякла, и все дальнейшее творилось с ней с безжизненной.
Часть шестая
Очнулась от приятного прикосновения холодной воды к ее губам, которые, оказывается, горели и растрескались. Их коснулась кружка с водой, и она, не приподнимаясь, облившись, сделала несколько жадных, отрадных глотков и лишь потом с трудом разомкнула очи и увидела склонившуюся над ней старицу в черном, слабо освещенную маленьким сальничком, копившим на крошечном дощатом столике, примкнутом к изголовью того, на чем она лежала.
- Слава тебе, Господи, очнулась! - тихо, беззубо прошелестела старица, перекрестилась и перекрестила ее. - Как себя чувствуешь?
- Не знаю...
Старица была древняя, с желтым костистым лбом, желтыми костистыми скулами, провалившимся узким ртом и глубокими темными глазницами с неблестевшими глазами - очень похожая на покойницу. А за ней были темнота и низкий потолок из почти черных неровных плах. А рядом - холодная бревенчатая стена, бревна тоже почти черные, сильно изъеденные древоточцами. А напротив другая такая же стена; привстань - дотянешься рукой. Каморка. Воздух тяжелый, стоялый, с гнилью старого-престарого дерева. И лежала она тоже во всем чужом - иноческом.
- Где я?
- У Рождества Пречистая Богородицы в девичьем монастыре, который на Рве. Наречена Софией.
- Софией?!
- Софией.
- Когда меня привезли?
- Намедни.
- Кто?
- Не ведаю, сестрица. Пробудится матушка игуменья - спросишь.
- А счас что?
- Ночь. Скоро заутреня. Я на ночь к тебе приставлена. Давай помолимся... Благослови душа моя, Господа, и вся внутренность - святое имя Его...
- Погоди! Не могу!
Старица смолкла, застыла рядом, как черное изваяние. А она прикрыла глаза, сжалась, стараясь ни о чем не думать, чтобы опять поскорее забыться и не понимать, не понимать, что произошло, но это никак не получалось; стали выплывать, мелькать, вспыхивать жуткие картины вчерашнего, и ей опять сделалось невмоготу, она опять вся запылала, заметалась на немыслимо твердой лежанке и вдруг различила еле слышное беззубое шамканье:
- Ты из каких, сестрица?
* * *
Рождественский девичий монастырь располагался на скате высокой горы, под которой с западной стороны текла река Неглинная, а с северной шел широкий ров, опоясывающий все московские посады, отчего монастырь называли еще Рождественским на Рве.
Выше, на той же горе, у дороги на Владимир, был Сретенский монастырь, за ним Кучковы села и Кучковы огороды. А за восточной стеной Рождественского теснились многочисленные большие безоконные пушечные избы, в которых хранилось все потребное для литья пушек, ибо далее по высокому берегу Неглинной располагался московский Пушечный двор, а за ним и Кузнецкий с Кузнецким же мостом через Неглинную.
В общем, не так чтобы очень-то далеко от Кремля и Китай-города, но и не близко - за посадами, на краю Москвы.
И все равно: еще и не брезжил рассвет, а в келью уже тихонько постучалась и вошла припорошенная мягким снегом, раскрасневшаяся от ударившего морозца Дарья Мансурова. Припухшие от слез глаза, подбеленные темные круги под ними.
Как вошла, так и окаменела от вида своей ненаглядной государыни во всем черном, монашеском, с мертвенно-бледным, сильно осунувшимся, застывшим лицом. Ни слова не могла вымолвить, только слезы хлынули ручьем, и громко завсхлипывала. Наконец рванулась, пала перед ней, лежавшей на топчане, на колени, ухватила и стала горячо целовать руку, залив ее жаркими слезами. Поцеловала и приподнятое колено под рясой.
Соломония села. Ласково приложила руку к ее горевшей щеке.
Случившееся в последние дни так измотало ее, так изорвало душу и мозг, что вчера она впервые в жизни почувствовала, что в ней нет больше никаких сил: нет сил двигаться, нет сил думать, ничего не хотелось. Навалилось странное, тоже прежде никогда не испытанное тяжелое полузабытье-полусон; все исчезло, но вскоре оказалось, что она опять не спит, все видит, но ничего не соображает, не думает, не хочет - то ли полуспит, то ли в полузабытьи.
Через силу - говорить тоже было тяжело и не хотелось - объявила старице еще поутру, что хочет остаться одна, пусть та уйдет в сени и никого к ней не пускает - никого-никого! - говорит всем, что не желает нынче никого видеть. И еды тоже не надо никакой; захочет - кликнет.
Так в полусне-полузабытьи весь вчерашний день и пролежала на твердой как камень лежанке в этой черной, затхлой деревянной келье, которая стала казаться ей самой что ни на есть убогой гробницей, но это, как ни странно, нисколько ее не взволновало, только тело начало тупо болеть, будто ее всю от макушки до пят избили, хотя вообще-то, никогда не битая, она не должна была бы себе это и представлять, однако ей так казалось.
Дарье нисколько не обрадовалась. В первый миг даже подосадовала, что кого-то все же впустили, нарушили одиночество, но, увидев ее, досаду, конечно, скрыла, слушала ту с показным интересом, но совершенно безучастно внутри - опять одолевала дрема! - хотя Мансурова, страшно переживая, прерывалась от волнения и нехватки воздуха, сообщала, что происходило после ее увоза, как на государевой половине и на их все сначала притихли, а потом зашептались; в одном месте двое-трое шепчутся, в другом, в третьем - и только о ней. А вчерась уже и во всех московских домах разговоры только о ней. На базарах. На торжках. На крестцах. На папертях. Там-то везде уж в полный голос и крик несут такое, что волосы от ужаса встают дыбом - сама слышала! Будто бы и одежды-то с нее сдирали догола, и плетью хлестали до крови, а Требник возлагали на голову связанной по рукам и ногам.