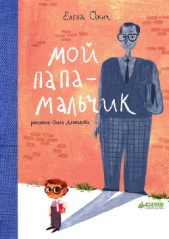Операция Бассейн с подогревом

Операция Бассейн с подогревом читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
After the ball, after the ball
You were the one, out in a hall
You were the one, the woman who loved me
After the Ball.
Или как Севка с Осиком ее в тот же вечер переиначили: "После бала, после бала, физруку опять давала, он тебя через "козла" ... " ну и так далее, в том же духе.
Севка, к слову, неплохо знал их семью - дед у них был военным, дядя какой-то шишкой в министерстве в Киеве, отец плавал, мать спекулировала. Жили они на Среднефонтанской в двухэтажном особняке. Севка заходил к ним иногда, пытался подтянуть ее по алгебре, причем, садился он всегда по другую сторону стола, чтобы голова не так кружилась от запаха ее волос. Самое смешное, а тогда ему было совсем не до смеха, она и под столом умудрялась достать его ногой и там творить с ним нечто далеко не алгебраическое. Скорее, акробатическое. Не хочется снижать тон, не хочется сбиваться на дешевые остроты, тем более, что пора уже наконец дать ответ на простой вопрос: потерял я, черт бы ее подрал, девственность среди березок или не потерял, но я себе не прощу, если пользуясь случаем, не вставлю буквально два слова о ее ногах.
Нет, это были не просто ноги. Это были дивные ноги. Длинные и стройные ноги. Это были ноги, созданные отнюдь не для ходьбы, бега или, скажем, прыжков в длину, но для абсолютного покоя, для прогулок в мире идей, для самосозерцания и для любви вечной. О, эти колени, эти икры, эти лодыжки, эти розовые пятки, даже зимой пахнущие песком во время прибоя, я вижу вас будто расстался с вами только вчера во второй половине дня!
Филолог Оля, скажи, почему на мои чувства ты неизменно отвечала кому-то другому? Нехорошая, объясни, зачем, когда я, кончив цитировать Бальмонта, лез тискать твои сиськи, ты била меня, негодница, Сервантесом прямо по яйцам, после чего я, растеряв остатки красноречия и согнувшись пополам, со слезами на глазах выдавливал из себя жалкое: "всё, ай! больше не буду, ну больно же, ах ты сука малая"?..
Все эти картинки весны моей половой зрелости настолько порой теряют ясность очертаний, что так и тянет обернуться в темноте к источнику луча, в котором над нами пляшут мириады пылинок, а из них сотканы и Оленька, поправляющая бретельки и челку, и я с романом бессмертного испанца между ногами, и бульвар, весь в окурках и голубином помете, - так вот, говорю, до чего хочется иной раз обернуться и бросить в сердцах в ничто: "Эй, сапожник! Резкость!" Но боишься нарваться...
А с Оленькой мы, наспех примирившись после обычной нашей схватки, сидим в кинотеатре повторного фильма им. Маяковского. Она жует трубочку с заварным кремом, я пытаюсь разобраться в происходящем - мы немного опоздали. Вроде, по войну. Ну и про любовь тоже, как же без этого?
На трибуне известный актер в роли агитатора. "Серьезней, граждане, многозначительней. Хмурьтесь, - призывает, - как в трагедии "Б. Годунов" в свое время хмурились предки наши с котомками". А с места ему: "На кого работаешь, падло?" Хотя по виду - не тот падло, а этот. А агитатор степенно так: "Ни на кого, браток, в том-то и беда вся. Хотел бы на себя, но платить себе не могу - и так на жизнь не хватает". Хотя по лицу понимаем - врет, хватает. Тут как грянули смычковые, невеста как разошлась, разрумянилась, в пляс пустилась, и вдруг давай блевать! Аж всего свекра забрызгала. От корова: грудь ей стеснило, слезы туманят взор, ротик свой прелестный ручкою прикрывает - не хочет при людях ударить лицом в барабан. А тут и доярка товаркам пошла плакаться-причитать: "Ой, бабоньки тошно, ой тошно! Мужички все до единого на фронте, холодильник, как на грех, накрылся, а чинить-то некому, кругом такая черствость, плесень и, это, ну в общем, отсутствие элементарного человеческого органа. Ой, истосковалась я, ой, иссохлась, ой, жду весны, аж не дождуся ее. Весной, слыхать, большой начальник из центра приедет, запрет на онанызимь сымет. Я, дура старая, и то стала ногти стричь - готовиться..."
Тут пленка рвется, свет включают, народ, привыкший к перебоям с искусством, безмолвствует, Оленька спит на моем плече, губки ее перепачканы кремом. Я не удерживаюсь и слизываю его торопливо. Она открывает глаза и, сонно улыбаясь, шепчет: "Вот глупое кино. Пойдем-ка лучше в сад".
Конечно, Оля, лучше в сад. Ах, сад! Как я люблю гулять в тени твоих аллей, ноздрей вдыхая твой полураспад! Вот как у меня тут даже в рифму на радостях вышло. Итак, осень, конец сентября, где-то вдали поет певица Кристаллинская, мы внимаем, полусмежив веки. Скамейки все одной изрезаны непристойностями... И вдруг: что это? сон? или явь? Филолог Оля улыбается мне в темноте, расстегивает две верхние пуговки желтой приталенной рубашки и смотрит на меня своими чудными глазами. "Ну? А дальше что?" - говорит не то она, не то ее взгляд, не то...
Ну, что дальше? Дальше губы оказались мягкими. Господи, где же это все сейчас? В памяти или еще где? Сколько ей тогда было? На ощупь не многим больше, чем мне. Семнадцать. Прекрасный, пахучий возраст. Ну там бюстгальтер, все дела, попка. Зубы выпадают, а я всё еще помню и ее, и суховей, и тот шпагат на шершавой скамье в горсаду, и не среди берез никаких, а под каштаном... Занозы в попе не забылись. Филолог Оля, где же ты есть в настоящий момент? Моя ветреная мельница, моя прекрасная Дульсинея?
Мы с ней протрахались весь октябрь и половину ноября того предотъездного года. Дед Эмма очень волновался, что все это некстати, что нам еще в Киев за выписками, в Москву за визами, а паковаться, а прощаться... А я смотрел на деда с блаженной, 9 на 12 улыбкой, и думал: "Ну, на фига я уезжаю от нее?"
Я даже не помню, как мы расстались. Как той ночью (или другой?) стояли у окна - это помню. Как за окном пыль садилась, и сутулые люди в кепках, переругиваясь, запирали квасные ларьки на ночь - тоже. И еще помню, что на вокзал провожать она меня не пришла.
А вот еще одна запись из дневника, который я вел той осенью:
"Есть вещи, о которых лучше не говорить и не думать. На сладкое была она сама. Теплая, потная, сладкая, глазастая. Умру, но лучше не найду, думалось.
Монетку кладешь на рельсы, вы меня слушаете? Грохочет по рельсам восемнадцатый трамвай, вам слышно отсюда? Подходишь к рельсам, насвистывая. Нагибаешься с напускным равнодушием. Смотришь. Монетка на рельсах длинная, расплющенная, горячая. Не монетка уже, а так - одно название".
8. НА ПЕРРОНЕ
- Ну, что, студент, - сказал я Севке на перроне в день нашего отъезда (пока мы собирались уезжать, он умудрился поступить в Строительный), писать мне будешь?
- Письма, что ли? - спросил мой друг.
- Не обязательно, - ответил я.
- А что тогда?
- Отчеты о превратностях судьбы пиши. С графиками. Акварели ментальных ландшафтов. Я не знаю, Севка. Что хочешь, то и пиши.
- Я к тому, что письма это скучно, Витечка. Ну кто-то там женится, кто-то загремит в армию, кто-то купит подержанный "Запорожец" или МХАТ с Дорониной прилетит.
- Жизнь вообще штука не шибко веселая, - сказал я. - А если еще и писем не писать...
- А как насчет снов? - вдруг спросил он.
- Снов?
- Снов, - повторил Севка. - Меняться сновидениями. Как когда-то, но в письмах. Я тебе свой сон, ты мне свой. Дорогой друг, в твоем прошлом сне ты пишешь... А вот что приснилось мне... А иначе, ну что ты мне напишешь про свою Америку: ищу работу, учу язык, вставил негритоску?
- Мысль неплохая, - отвечал я. - Я про сны. Но как быть с мальчиками (так мы называли наши доблестные органы, стоящие на страже и т.д.)? Думаешь, письма со снами они тормозить не будут? Ведь присниться может такое, в чем себе самому не всегда сознаешься. А тут сон в письме, да еще из-за рубежа. Ты как думаешь?
- Я думаю, это все рубежи, - промолвил мой друг. - Запомнить сон рубеж. Написать мне - рубеж. Письмо дойдет - еще рубеж, я отвечу - опять рубеж.
- Красиво говоришь. Тебе б не в инженера, Сева. Тебе бы в Цицероны с Апулеями.
- Пошути у меня, - сказал Севка. - Американская твоя рожа.