Том 10. Петербургский буерак
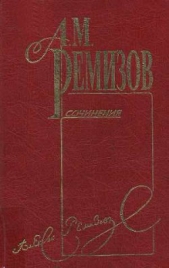
Том 10. Петербургский буерак читать книгу онлайн
В десятый том Собрания сочинений А. М. Ремизова вошли последние крупные произведения эмигрантского периода творчества писателя – «Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак». В них представлена яркая и во многом универсальная картина художественной жизни периода Серебряного века и первой волны русской эмиграции. Писатель вспоминает о В. Розанове, С. Дягилеве, В. Мейерхольде, К. Сомове, В. Коммиссаржевской, Н. Евреинове, А. Аверченко, И. Шмелеве, И. Анненском и др. «Мышкина дудочка» впервые печатается в России. «Петербургский буерак» в авторской редакции впервые публикуется по архивным источникам.
В файле отсутствует текст 41-й страницы книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жили мы тогда очень трудно. Особенно, как перебрались с Кавалергардской на Загородный в комнату. Особенно в праздник, когда к хозяевам приходили гости: как в темнице сидели, Серафима Павловна тогда все плакала: Наташи с нами не было. Тут вот нас и освободил Рославлев, оболванив Саксаганского. И в М. Казачий переехали. 5 И как раз о ту пору и Розановы переехали со Шпалерной в Казачий же. Ну, Котылев мне со сказками помогал – я и теперь не знаю, что его толкнуло ко мне, что ему от меня? Когда он старался для Куприна, тут было из-за чего, не он, так другой постарался б, но я – только одна неприятность и постоянные скандалы. Умные люди ему говорили: «Да брось ты с Ремизовым возиться, времени проводка, а карману шиш». И правда, много ль рублей он на мне заработал? – да на извозчика не хватит по редакциям ездить! И все-таки Кот-и-Лев 6, а впоследствии кавалер обезьяньего знака с повислым слоновым хоботом 1-й степени, он точно чего-то радовался, встречаясь со мной. В конце сентября 1917 года оба мы одновременно захворали: 7 крупозное воспаление – я поднялся, а он не выдержал. Мне говорили о нем: «каторжная совесть» – не знаю, какая такая «каторжная»? Так и осталось загадкой почему человека «каторжного» повлекло ко мне и до смерти, отчаянный и вероломный, он был мне верен и никогда не «расстроил» меня, не огорчил душу. А когда его ругали, мне было больно.
А Рославлев – скажу и о нем, чем все кончилось, – Рославлев в своей разбойничьей поддевке, обставив Саксаганского, отстранился от Саксаганских издательских дел «EOS’а», или, вернее, Саксаганский, не дурак, рано или поздно сообразил, что ни Дм. Цензор, ни Владимир Ленский, ни я, и, само собой, ни Лазаревский с Рославлевым, никакие мы Львы Толстые и Достоевские и от нас никакого озарения «драматическим этюдам» Анны Семеновны, будь, например, Горький, Леонид Андреев, Куприн, Арцыбашев, ну хоть какой-то отблеск… в один прекрасный день, расплатившись с типографией, снялся со своей петербургской квартиры и отбыл с Анной Семеновной и ее драмами восвояси, в Екатеринослав, «разрабатывать ломаное железо».
Потом уже, без Саксаганского я встречал Рославлева на литературных вечерах и собраниях. Я всегда ему был благодарен, как он нас выручил тогда, освободив от Загородной тюрьмы 8. Иногда он заходил к нам и читал все те же «клики, пушки и трезвон»: ему казалось, что это ершовское стихотворение в «русском» стиле 9 и мне приятно. Помню, в «холерный» год – «не пейте сырой воды», у нас всегда стоял на столе большой кувшин отва̀рной воды, стаканов десять, помню, как Рославлев попросил напиться, его мучила селедочная жажда, и на моих глазах, стакан за стаканом опорожнил кувшин, все десять, и только выпустил воздух, как рыба пускает ртом. Вот он какой был человек многоутробный, он и на еду был такой же, а в Революцию, в 1920 году, голод его скрутил, а тиф прикончил. «Спасибо вам, Александр Степаныч!» – так мысленно я с ним простился. Само собой, Рославлев был кавалер обезьяньего знака 1-й степени с пушкой и колоколами обезьяньей великой и вольной палаты – Обезвелволпал.
5 Милосердные *
Вернувшись от Руманова, помню, с каким восторгом я рассказывал о нем Серафиме Павловне, ведь я был так уверен, что все будет: мое напечатают в «Русском Слове», и деньги. Есть в житейской жизни такие маленькие вещи, вроде зубной щетки, конечно, скажут безулыбные безрадостные люди, «и пальцем можно!» – эти маленькие вещи необходимы, но как без денег? Я верил, я получу деньги, и не только зубную щетку, я пойду к Фаберже 1 и куплю жемчужное ожерелье. (Один раз я уже совался, да очень дорого, чересчур!) Я всегда искренно верил, но никогда не огорчался, когда не выходило, это мое исконное: «быть готову ко всему».
До «статуэтки» какое мне дело? Меня занимало «безобразие», а оно в таких случаях непременно. Люди вообще очень доверчивы и пугливы, а это как раз на руку «безобразию». Ну что если нагрянет полиция или в самый разгар «сеанса» просто сказать: обыск. «Политически» тут, конечно, ничего, но скандал, конечно, ведь надо это Эрмитажное сокровище объяснить как-то.
Вот в чем я всегда винюсь: когда разыгрывалось мое воображение о всяких «безобразиях», я совсем забывал, что я не один, а стало быть, в конце-то концов, – все-таки как ни одурачен бывает человек, а глаза продерет и разберется – и тень от меня непременно упадет на Серафиму Павловну. Правда, я это скоро понял – ожегся – и уж под всякими предлогами перестал выходить на люди, хоть воображение-то мое нисколько не пропало. На душе моей много грехов.
Вечером зашла к нам Варвара Дмитриевна Розанова, как я предполагал. И прежде всего она спросила, поедем ли мы в пятницу к Сомову?
Я сказал: «да, собираемся».
«А что такое Сомов показывать будет, Вася рассказывал?» – Варвара Дмитриевна очень подозрительно посмотрела.
«Ничего особенного, сказал я, свой неоконченный портрет, и не всем будет показывать, стесняется».
И говоря «неоконченный», я против Розанова нисколько не погрешил. Свою мысль о незаконченности Розанов запишет в «Опавших листьях» (Короб 1-й, стр. 74). 2
«А Минских радений не будет?» 3 – уж с каким-то затаенным страхом спросила Варвара Дмитриевна.
«Да Минский давно уехал, он в Париже. Будут Бенуа, Добужинские, конечно Сергей Павлович Дягилев, Философов, Лансере».
«Так вы едете?» еще раз спросила Варвара Дмитриевна.
И успокоилась.
И начала о своем: советы по хозяйству. И это были не пустые слова, а от желания. У нее, действительно, болело сердце за нас, а как хотела б она, чтоб меня где-нибудь напечатали и у нас были деньги.
Розанов запишет в «Опавших листьях», короб первый, стр. 254: «Нужно, чтоб о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь».
В Париже Эсфирь Соломоновна Познер, как когда-то Варвара Дмитриевна, будет советовать и наставлять по хозяйству, печалясь и желая удач и денег.
Поминаю и этих двух милосердных женщин, столько тепла и участия было от них в нашей бедовой судьбе.
В хозяйственный разговор где что купить, и что у нас есть, и чего надо достать и где, в эти кухонные подробности я поминутно встревался. А это не нравилось Варваре Дмитриевне. Наконец, она не выдержала, так это было против всей ее природы.
«Василий Васильевич у меня этим не занимается!» с укором посмотрела на Серафиму Павловну.
Оба мы этот укор увидели, и Серафима Павловна улыбнулась, а у меня на лице заиграло что-то неподходящее.
«Ваше дело писать, сказала Варвара Дмитриевна, мы вам не мешаем, садитесь и пишите».
Варвара Дмитриевна была убеждена, что «писать» и, скажем, «шить» разницы никакой, только что и различие: там перо, а тут игла.
Потом тихонько Серафиме Павловне
«Очень меня огорчает. Что случилось последние дни Вася сердится на Алексея Михайловича. “Ноги моей, говорит, у них больше не будет”».
Я сразу как-то – про какую ногу? – и чуть было не сказал, что все это вздор и сердиться ему не на что и что если он сердится, то не на меня, а на А. М. Коноплянцева: не возвращает Леонтьева. Но встретившись глазами с Серафимой Павловной, я сейчас все сообразил.






















