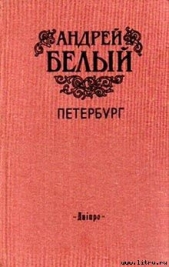Том 2. Петербург

Том 2. Петербург читать книгу онлайн
Андрей Белый (1880–1934) вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество, искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
Во второй том Собрания сочинений вошел роман «Петербург».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— «Подготовляется террористический акт?»
— «Он самый-с…»
— «И жертвой его?..»
— «Должен пасть один высокий сановник…»
По спинному хребту Аполлона Аполлоновича побежали мурашки: Аполлон Аполлонович на днях получил угрожающее письмо; в письме извещался он, что в случае принятия им ответственного поста в него бросят бомбу; Аполлон Аполлонович презирал все подметные письма; и письмо разорвал он; пост же принял.
— «Извините, пожалуйста, если это не секрет: в кого ж они теперь метят?»
Тут произошло нечто поистине странное; все предметы вокруг вдруг как будто принизились, просырели так явственно и казались ближе, чем следует; господин же Морковин как будто принизился тоже, показался ближе, чем следует: показался старинным и каким-то знакомым; усмешечка прошлась по его губам, когда он, наклонив к сенатору голову, произнес шепоточком:
— «Как в кого? В вас, ваше высокопревосходительство, в вас!»
Аполлон Аполлонович увидел: вон — кариатида подъезда; ничего себе: кариатида. И — нет, нет! Не такая кариатида — ничего подобного во всю жизнь он не видел: виснет в тумане. Вон — бок дома; ничего себе бок: бок как бок — каменный. И — нет, нет: бок неспроста, как неспроста и все: все сместилось в нем, сорвалось; сам с себя он сорвался и бессмысленно теперь бормотал в полуночную темь:
— «Как же так?.. Нет, позвольте, позвольте…»
Аполлон Аполлонович Аблеухов все никак себе реально представить не мог, что вот эта перчаткою стянутая рука, завертевшая пуговицу у чужого пальто, что вот эти, вот, ноги и это усталое, совершенно усталое (верьте мне!) сердце под влиянием расширения газов внутри какой-то там бомбы во мгновение ока могут вдруг превратиться… в…
— «То есть, как это?»
— «Да никак-с, Аполлон Аполлонович, а очень все просто…»
Чтобы это было так просто, Аполлон Аполлонович поверить не мог: сначала он как-то задорно профыркал в свои серые бачки (— и бачки!), выпятил губы (губ не будет тогда), а потом и осунулся, голову свою опустил низко-низко и бездумно глядел, как у ног его лепетала грязная тротуарная струечка. Все кругом лепетало мокрыми пятнами, шелестело, шептало: то несся старушечий шепот осеннего времени.
Под фонарем Аполлон Аполлонович стоял, чуть покачивал серо-пепельным своим ликом, раскрывал удивленно глаза, их закатывал, вращая белками (громыхала пролетка, но казалось, что там громыхало что-то страшное, тяжкое: будто удары металла, дробящие жизнь).
Господину Морковину, очевидно, стало весьма даже жаль это старое, перед ним точно в грязь осевшее очертание. Он прибавил:
— «Вы, ваше высокопревосходительство, не пугайтесь, ибо приняты строжайшие меры; и мы не допустим: непосредственной опасности нет ни сегодня, ни завтра… Чрез неделю же вы будете в курсе… Повремените немного…»
Наблюдая дрожавшее жалобно лицевое пятно, напоминавшее труп, осиянный бледным блеском фонарного пламени, господин Морковин подумал невольно: «Как же он постарел: да он просто развалина…» Но Аполлон Аполлонович с чуть заметным кряхтением повернул к господинчику безбородый свой лик и вдруг улыбнулся печально, отчего под глазами его образовались огромные морщинистые мешки.
Чрез минуту, однако, Аполлон Аполлонович совершенно оправился, помолодел, побелел: крепко он тряхнул Морковину руку и пошел, как палка прямой, в грязноватую, осеннюю муть, напоминая профилем мумию фараона Рамзеса Второго.
Ночь чернела, синела и лиловела, переходя в красноватые фонарные пятна, точно в пятна огненной сыпи. Высились подворотни, стены, заборы, дворы и подъезды — и от них исходили всевозможные лепеты и всевозможные вздохи; несогласные многие вздохи в переулке бегущих ветряных сквозняков, где-то там, за домами, стенами, заборами, подворотнями, сочетались во вздохи согласные; а беглые лепеты струечек, где-то там, за домами, стенами, заборами, подворотнями, все сходились в один беглый лепет: становились вздыханьем все лепеты; и все вздохи начинали там лепетать.
У! Как было сыро, как мозгло, как ночь синела и лиловела, переходя болезненно в ярко-красную сыпь фонарей, как из этой синей лиловости под круги фонарей выбегал Аполлон Аполлонович и опять убегал из-под красного круга в лиловость!
Мы оставили Сергея Сергеевича Лихутина в тот роковой момент его жизни, когда белый как смерть, совершенно спокойный, с ироническою улыбкой на твердо сжатых устах он стремительно бросился в переднюю комнату (то есть просто в переднюю) за непослушной женою и потом, щелкнув шпорами, так почтительно стал перед дверью с меховой шубкой в руках; а когда Софья Петровна Лихутина прошуршала задорно мимо носа сердитого подпоручика, то Сергей Сергеевич Лихутин, как видели мы, все с теми же слишком резвыми жестами стал повсюду ходить и повсюду гасить электричество.
Почему же он обнаружил свое необычное состояние духа этим странным поступком? Ну, какая может быть связь между всей этой пакостью и горелками? Столь же мало здесь связи и смысла, сколь мало этой связи и этого смысла между угловато-длинной и печальной фигурой подпоручика в темно-зеленом мундире, слишком резвыми жестами и задорной, льняной бородкой помолодевшего лица, будто вырезанного из пахучего кипариса. Никакой связи и не было; разве вот — зеркала: на свету они отражали — угловато-длинного человека с помолодевшим вдруг личиком: угловато-длинное отражение с помолодевшим вдруг личиком, подойдя вплотную к зеркальной поверхности, ухватило себя за белую тонкую шею — ай, ай, ай! Никакой вот связи и не было между светом и жестами.
«Щелк-щелк-щелк», — тем не менее щелкали выключатели, погружая во тьму угловато-длинного человека с слишком резвыми жестами. Это, может быть, не подпоручик Лихутин?
Нет, войдите в его ужасное положение: отразиться так пакостно в зеркалах, оттого что какое-то домино нанесло оскорбление его честному дому, оттого что, согласно офицерскому слову, он обязан теперь и жену не пускать к себе на порог. Нет, войдите в его ужасное положение: это все-таки был подпоручик Лихутин — он самый.
«Щелк-щелк-щелк», — выключатель защелкал в соседней уж комнате. Так же он прощелкал и в третьей. Этот звук встревожил и Маврушку; и когда она из кухни прошлепала в комнаты, то ее охватила так густо совершенная темнота.
И она проворчала:
— «Это что же такое?»
Но из тьмы раздался сухой, чуть сдержанный кашель:
— «Уходите отсюда…»
— «Как же так это, барин…»
Кто-то ей из угла просвистел повелительным, негодующим шепотом:
— «Уходите отсюда…»
— «Как же, барин: ведь, за барыней надо прибрать…»
— «Уходите вовсе из комнат».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— «И потом, сами знаете, не стелёны постели…»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— «Вон, вон, вон!..»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И едва она вышла из комнаты в кухню, как к ней в кухню пожаловал барин:
— «Убирайтесь вовсе из дому…»
— «Да как же мне, барин…»
— «Убирайтесь, скорей убирайтесь…»
— «Да куда мне деваться?»
— «Куда знаете сами: чтоб ноги вашей…»
— «Барин!..»
— «Не было здесь до завтра…»
— «Да барин же!!..»
— «Вон, вон, вон…»
Шубу ей в руки, да — в дверь: заплакала Маврушка; испугалась как — ужасть: видно, барин-то — не того: ей бы к дворнику да в полицейский участок, а она-то сдуру — к подруге.
Ай, Маврушка…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Как ужасна участь обыденного, совершенно нормального человека: его жизнь разрешается словарем понятливых слов, обиходом чрезвычайно ясных поступков; те поступки влекут его в даль безбережную, как суденышко, оснащенное и словами, и жестами, выразимыми — вполне; если же суденышко то невзначай налетит на подводную скалу житейской невнятности, то суденышко, налетев на скалу, разбивается, и мгновенно тонет простодушный пловец… Господа, при малейшем житейском толчке обыденные люди лишаются разумения; нет, безумцы не ведают стольких опасностей повреждения мозга: их мозги, верно, сотканы из легчайшего эфирного вещества. Для простодушного мозга непроницаемо вовсе то, что эти мозги проницают: простодушному мозгу остается разбиться; и он — разбивается.