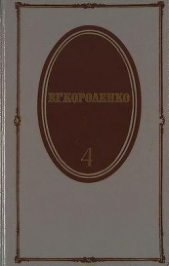Том 7. История моего современника. Книги 3 и 4

Том 7. История моего современника. Книги 3 и 4 читать книгу онлайн
Седьмой том составляют третья и четвертая книги «Истории моего современника».
«История моего современника» — крупнейшее произведение В. Г. Короленко, над которым он работал с 1905 по 1921 год. Писалось оно со значительными перерывами и осталось незавершенным, так как каждый раз те или иные политические события отвлекали Короленко от этого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В камере, куда меня перевели после камеры Рабиновича, было три человека, в том числе бывший помощник смотрителя той же тюрьмы, человек сурового и меланхолического темперамента. Ему приходилось теперь сидеть под присмотром своих бывших подчиненных. Интереснее было общество, помещавшееся в другой привилегированной камере. Особенно заинтересовали меня два приятеля, если память не изменяет мне, Пекарский и Овсянников, или Овсянкин. Это были молодые люди, служившие волостными писарями. У них, по-видимому, бродили какие-то идеи, странным образом преломившиеся в головах сибирских полуинтеллигентов. Они составили фантастический план ограбления почты, но, осуществив его и овладев заснувшим почтальоном и струсившим ямщиком, они затем не решились «дойти до конца», отпустили обоих, поверив их клятвам, и вскоре были пойманы облавой из соседних деревень…
— Все это было глупо, — говорил мне Овсянкин, прогуливаясь со мной по коридору, — теперь мы уже будем действовать иначе…
— А как, если это не секрет? — спросил я.
— Подкоп под казначейство, как Сашка-инженер, — ответил он.
— А разве необходимо ограбить почту или казначейство? — спросил я.
— Мы «для дела», — не без важности ответил Овсянкин. Его друг был сдержан и серьезен, а сам он довольно экспансивен, мягок и мечтателен. Вообще пример Александра Юрковского произвел сильное впечатление на полууголовную среду, и впоследствии я получил большую рукопись от некоего Сорокина, который подробно описывал совершенный им подкоп под гродненское казначейство…
В той же томской тюрьме я приобрел еще одно интересное знакомство. Камера Пекарского и Овсянкина служила, так сказать, интеллигентным центром «содержающей». Сам Пекарский представлял странную фигуру, с детски узкими плечами и громким басом, который во время замешательства, вызванного посещением М-лова, гулко разносился по коридору. Вообще он, видимо, старался поднять «шпанку» и выражал презрительное негодование за ее неумение постоять за себя. В его камере, кроме того, фабриковались разные документы, способствующие побегам. Все в этом мире относительно, и, входя к Пекарскому, я чувствовал, что этот уголовный преступник при других обстоятельствах мог бы выработаться в незаурядного человека и что по сравнению не только с тюремной шпанкой или тюремными «Иванами», но даже по сравнению с «его превосходительством» удельный вес его личности был гораздо значительнее.
У меня было несколько набросков из моих ссыльных скитаний. Тут были Починки, камера Фомина, вид двора томской пересыльной тюрьмы. В камере Пекарского их рассматривали с большим интересом. Особенно внимательно приглядывался к ним один арестант, которого называли, кажется, Иваном Ивановичем. Это был человек, чисто говоривший по-русски, но в котором чувствовалось что-то инородческое: немец или латыш. Как и в Пекарском, в нем угадывалось что-то позначительнее среднего арестантского уровня. Рисунки он рассматривал с видом знатока и на следующий день принес мне новенькую рублевую бумажку.
— Вы должны понимать в этом толк, — сказал он. — Что скажете о работе?
Я понял, что бумажка фальшивая, но работа была превосходная, и я не мог бы отличить ее от настоящей. Оказалось, что Иван Иванович был тоже артист, фальшивомонетчик. Говорили, что он «пустил в ход» несколько приобретавших в то время известность сибирских фирм, которые начинали со сбыта его изделий. Они заводили мастерскую где-нибудь у себя на лесной заимке и начинали сбывать бумажки где-нибудь подальше. В это время обе стороны держали себя начеку. Для купца была опасна невыдержанность или пьяная болтовня мастеров… Ходили мрачные рассказы о том, как порой такие лесные заимки после более или менее продолжительной работы сгорали дотла вместе с «мастерами».
Иван Иванович производил впечатление человека сдержанного и серьезного, и болтовни с его стороны можно было не опасаться. Наоборот, сам он попался на этот раз из-за невыдержанности и неосторожности сибиряка. Производство было еще не закончено. Готовы были только рублевки. Сибиряк, торговавший скотом, поехал покупать скотину и, закупив много в одном месте, заплатил толстыми пачками этих рублевок. Один из продавцов обратил на это внимание и заметил, что на всех бумажках один номер.
После того как я похвалил действительно артистическую работу, Иван Иванович отлучился из камеры и, вернувшись, неожиданно предложил мне пачку кредиток.
— Возьмите… Бог знает что вам придется испытать…
Когда я отказался, он спокойно спрятал бумажки в карман…
При этом присутствовали Пекарский и Овсянкин. Пекарский молча наблюдал эту сцену, а Овсянкин не удержался:
— Вам надо идти в монастырь, а не заниматься революцией…
Он назвал одного политического, недавно провезенного на север Томской губернии, который не выказал такой щепетильности.
Ивану Ивановичу доставили с воли хорошо припрятанный литографский камень, и он возобновил производство в самой тюрьме. Я не знаю, участвовала ли в этом тюремная администрация или нет. Знаю только, что в то же время одна из сибирских тюрем (нижнеудинская) была настоящей фабрикой фальшивой монеты. Об этом знали все арестанты и вся администрация тюрьмы. Одни производили, другие сбывали, и наша политическая партия (от которой я отстал в Томске) застала в этой тюрьме очень свободные нравы: водку можно было получать не дороже, чем на воле. Чем это кончилось, не знаю, но нижнеудинская тюрьма пользовалась широкой известностью в уголовной среде.
Мне приходится отметить здесь еще одну встречу в той же «содержающей». Однажды с двумя спутниками — Пекарским и Иваном Ивановичем — я пошел в тюремную церковь. Самая церковь произвела на меня своеобразное впечатление. Арестанты помещались прямо против алтаря, на хорах. Середина была отведена для «вольной публики» и тюремного начальства, а по бокам, отделенные деревянной загородкой внизу и на некоторой высоте еще проволочной решеткой, были узкие пространства для привилегированных арестантов. Прямо за алтарем вместо запрестольного образа рисовалось большое распятие. Огромный крест и большая фигура распятого резко выступали на фоне огромного окна, которое тоже все было перекрещено толстой тюремной решеткой. Заметив, что я присматриваюсь к этому зрелищу, Иван Иванович сказал, улыбаясь своей умной улыбкой:
— Да… Христа тоже посадили за решетку…
Это было естественно: конечно, нельзя было оставить без решетки церковных окон в тюрьме, но когда впоследствии я отметил это в своих очерках, то самое упоминание о распятии за решеткой оказалось нецензурным… Есть такие символы, которые совершенно правдивы и неизбежны, и все-таки неприятно режут цензурный слух.
Я думал об этом, прислушиваясь к возгласам старенького священника, когда мой спутник обратил мое внимание на фигуру, стоявшую впереди нас на коленях. Какой-то старик в кандалах усердно клал поклоны и, казалось, горячо молился.
— Посмотрите на этого святого человека, — довольно громко и бесцеремонно сказал Иван Иванович.
Молившийся при этом бесцеремонном замечании повернул голову. На нас взглянуло старческое сухое лицо с длинной узкой бородой и острым колючим взглядом. В этом лице было столько затаенной злобы, что мне стало страшно, но Пекарский и Иван Иванович нимало не смутились. Из их рассказов, дополненных после того, как мы вышли из церкви, я узнал странную историю этого старика. Мне сказали, что это глава секты «покаянников». «Вез покаяния нет спасения, а без греха нет покаяния». Значит, грех нужен для спасения. Не могу сказать ничего более точного об этом странном учении. Мне рассказали только, что человек этот сидит в тюрьме уже не первый раз, как глава опасной разбойничьей шайки, но каждый раз успевает откупаться от сибирского правосудия. И на этот раз на нем позванивали кандалы, но он пользовался в тюрьме привилегированным положением, и мои собеседники нимало не сомневались, что и теперь он выйдет сух из воды. Меня поразила глубокая ненависть, которую мои собеседники питали к этому святоше. Остальная арестантская среда относилась к нему с некоторым уважением, как к значительной силе. Пекарский и Иван Иванович не считали нужным скрывать своего чувства…