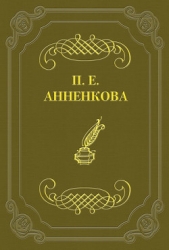Бегущая строка памяти

Бегущая строка памяти читать книгу онлайн
«Бегущая строка памяти» — автобиографическая проза Аллы Демидовой.
На страницах этой книги мы встретимся с Юрием Любимовым, Иннокентием Смоктуновским, Владимиром Высоцким, Анатолием Эфросом, Андреем Тарковским, Иосифом Бродским, Ларисой Шепитько, Антуаном Витезом…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
1992 год, 20 мая. Премьера «Электры» в Афинах.
1994 год, 6 декабря. Разговор с Любимовым в Афинах о наших разных взглядах на театр. Встретилась с руководителями «Мегаро» (дают деньги на «Медею»), я отказалась участвовать в этом проекте.
1995 год, 4 июля. Написала по просьбе директора театра заявление об отпуске без сохранения содержания.
После раскола театра на губенковскую и любимовскую труппы (я, естественно, у Любимова) — опять беготня по кабинетам и судам. Ездила по Москве, собирала подписи в поддержку Любимова. Швейцер сказал, что в таганковской истории, как в трагедии, нет правых и неправых…
…Эфрос мне иногда снится. Недавно приснился, и так явно, что я даже сон запомнила. Во сне я говорила ему: «Знаете, Анатолий Васильевич, вы напрасно порвали с «Бронной». А он: «Там невозможно было жить, там у меня не было друзей». Я: «Но все равно это — ваш театр. И даже если вы не могли работать с теми, кто вас предал, вы бы начали работать с другими но на этой площадке, она — ваша. Там бы вы оставались в собственных стенах, и ваш энергетический заряд многих бы притянул. Эту пуповину нельзя было рвать…» Вот такой у меня был сегодня ночью с ним разговор.
Еще при жизни Эфроса был юбилей Павла Александровича Маркова, мне позвонила Таня Шах-Азизова и сказала, что в Доме ученых будет вечер Маркова. Но сам Марков не хочет присутствовать на сцене, а хочет, чтобы в концерте показали отрывки спектаклей, о которых он писал последнее время, и один из них — «Вишневый сад» Эфроса.
Но ведь «Вишневый сад» нерасторжим на сцены, он весь — одним накатом. Кроме того, на фоне белых стен Дома ученых, но без белых костюмов, надо играть иначе — более объемно, более резко. Но Таня меня уговорила.
Я выбрала сцену с Петей Трофимовым, позвонила Золотухину — он откликнулся. Подумали: не в белых ли костюмах? — но это выглядело бы странно на голой сцене. А я тогда носила длинные юбки и много бус. Эфрос говорил: «Вы, Алла, как новогодняя елка — сверкаете и звените…»
И вот я, как лежала на диване в длинной юбке а-ля хиппи, так и пошла на вечер. Собственно, и костюм Раневской — такой же, только в белом цвете: все развевается, непонятно, где начало, где конец этих тряпок.
Прихожу. Как всегда, опаздываю — вечер уже начался. Слышу знакомую мелодию, подхожу к кулисам и вижу, что это показывают кусок из «Вишневого сада» с Книппер-Чеховой, но запись, очевидно, конца 40-х, потому что Книппер очень старая. И как раз — сцена с Петей Трофимовым. Играют медленно-медленно, и если наша сцена длится 5–6 минут, они треть ее играют минут 10. И я подумала: «Ну, мы в порядке. На этом фоне мы, конечно, выиграем». Правда, потом, когда камера пошла за окно — к расцветающим вишневым деревцам и зазвучал знаменитый вальс, я поняла: видимо, была какая-то особая атмосфера… Закончилось. Гром аплодисментов, просто шквал, как бывает в Парке культуры, когда там молодежь. Я посмотрела в зал: там сидят старенькие академики в черных шапочках и их жены с брошечками на груди. Но аплодируют так, как в юности не аплодировали, и плачут с кружевными платочками у глаз. Тогда я сказала себе: «Алла, подумай! И сконцентрируйся…»
Поскольку вечер продолжался, а Золотухина еще не было, я пошла за кулисы. В Доме ученых две гримерные. Открыла одну дверь — там сидят «старики» в меховых боа, в вечерних платьях, в смокингах и во фраках: Кторов, Степанова, Зуева, Козловский, Рейзен — и что-то говорят светскими, поставленными голосами. Я тут же закрыла эту дверь, потому что своим видом никак туда не вписывалась и вообще они для меня были слишком великими, я не осмелилась бы даже сказать «здравствуйте». Открыла другую дверь — там среднее поколение. Тоже в черных костюмах, но уже в других. Травят анекдоты и смеются. А я в то время не воспринимала закулисную трепотню, поэтому опять закрыла дверь. Нашла где-то стульчик, полусломанный, поставила его за кулисами и стала смотреть. Играют «Чрезвычайного посла» — Кторов и Степанова. Играют все на зал, абсолютно не общаясь (где это знаменитое мхатовское общение и погружение в суть роли?!). Говорят поставленными голосами, видимо, оба немножко глуховаты, поэтому форсируют слово. Играют медленно. Но я завораживаюсь их статью, уверенностью, каким-то благородством внутренним и уважением к слову. Я-то слово никогда не уважала, но тогда подумала, что, видимо, оно несет какую-то функцию, помимо содержания, помимо интонации — какую-то энергию.
После их выступления — опять шквал аплодисментов. Потом играет Зуева Коробочку, Харитонов — Чичикова. Зуева гениальна, хотя наигрывает, как могут только характерные старухи в комических ролях. Харитонов не наигрывает, но мало интересен. Я опять подумала: «Видимо, в старой школе что-то было, напрасно я ее для себя зачеркиваю».
Потом поют Рейзен и Козловский. Рейзен до этого не выходил лет десять на сцену, волновался безумно — у него дрожали руки, когда он держал лорнетку. Они пели «Не волнуйся, наше море…», и Козловский свое «ля» тянул раз в десять дольше, чем Рейзен, а тот удивленно на него смотрел: ждал, когда это «ля» закончится.
В это время появляется Золотухин. Пьянее вина. Он слышит, как поют Козловский и Рейзен, и плачет. И в зале многие плачут от того, как эти два старика гениально поют. Золотухин трезвеет на глазах, понимает, куда он попал. Я ему говорю, что мы можем как-то «проскочить», если будем играть как последний раз в жизни на крупном плане кино. То есть никак не актерски, не подавая реплики в зал, только внутренне концентрируясь на мысле-образах, на партитуре. Это очень трудная техника, но Золотухин — гибкий актер и иногда может мобилизоваться.
Я выхожу на сцену: серые сукна, вместо скамейки из «Вишневого сада» два стула. После вечерних платьев, смокингов и боа — шок от моего вида. Я объясняю, почему я так одета, объясняю суть роли и декораций, пытаюсь ввести зрителей в атмосферу спектакля. Меня плохо слушают, я их раздражаю своим ассоциативным мышлением. Им нужен последовательный рассказ, а у меня его быть не может, я этого просто не умею. Комкая мысли, налезая фразой на фразу, я заканчиваю и говорю: «Воспринимайте нашу сцену как экзерсис»…Мы действительно никогда так не играли — так по-живому, так концентрированно, так нервно. Мы нашу сцену выпалили за три минуты, просто выбросили, как плевок. И мы ушли под звук собственных шагов не было ни одного хлопка…
Когда мы играли, мой внутренний режиссер говорил, что мы играем неплохо. Для себя. Но мы провалились, а отсутствие контакта со зрителем абсолютно зачеркивает внутреннее ощущение. И когда в театре назначили «Вишневый сад», я сказалась больной — я не могла это играть. Потом поговорила с Эфросом, и он очень разумно мне сказал: «Алла, вот представьте себе: в консерватории играют знакомую классическую музыку, а потом на три минуты выходят „Битлз“. Представляете, какое они бы вызвали раздражение! И наоборот — попробовал бы Рихтер сыграть на джазовом фестивале…» Это меня как-то успокоило, и я продолжала играть «Вишневый сад». В Доме ученых я не появлялась много-много лет. Потом, кажется, через год после смерти Эфроса, был вечер его памяти. Его проводили в Доме ученых. И я всю эту историю рассказала зрителям. Когда я уходила за кулисы, одевалась, садилась в машину — все еще слышались аплодисменты, хотя публика была, конечно, другая…