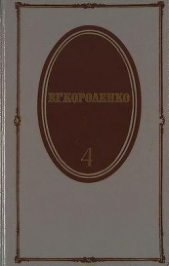Том 5. История моего современника. Книги 3 и 4

Том 5. История моего современника. Книги 3 и 4 читать книгу онлайн
В том включены третья и четвертая книги обширного автобиографического полотна «История моего современника», в раздел «Приложения» — дополняющие его очерки, незаконченная повесть «Полоса», не вошедшие в основной текст главы, а также написанные в разное время автобиографии писателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Затем нас провели в канцелярию, и нам пришлось ожидать, пока придет смотритель. В канцелярии я застал сцену, которая никогда не изгладится из моей памяти. За столом, огражденным барьером, сидел помощник стряпчего, каждые две недели приезжавший для того, чтобы давать арестантам справки о движении их дел. У барьера, напирая друг на друга, тесно жалась толпа арестантов.
— Как мое дело, ваше благородие, Ивана Сидорова?..
Чиновник рылся в бумагах и отвечал:
— Дело у заседателя такого-то участка.
— Господи! Который уж месяц, а он меня все не допрашивает!.. — отчаянно вскрикивал арестант.
Его оттирали, выступали новые вопрошатели и получали такой же ответ. Впечатление было такое, будто в Томске дела в то время совсем не двигались и вся эта толпа забыта здесь навсегда. Волнение среди арестантов по мере этих справок росло, то и дело прорываясь злобными замечаниями, а порой и ругательствами по адресу, может быть, совсем неповинного чиновника.
Особенное негодование вызвало одно дело. Крестьянин из недальнего села приехал зачем-то в город. Полиция потребовала паспорт. Паспорта не оказалось, и мужика взяли за бесписьменность. Взяли и… оставили в тюрьме. Дело было самое простое: справка о личности. Село было недалекое. Между тем родственники арестованного приходили на свидания, общество доставило удостоверительный приговор, староста нарочно приезжал с этим приговором, а дело все покоилось у заседателя такого-то участка, а мужик все сидел в тюрьме, получая каждые две недели один и тот же ответ… Когда на этот раз помощник стряпчего опять повторил его, мужик прямо завыл истошным голосом, и дело Ивана Ларионова как бы обобщило впечатление всей этой злополучной массы. Я стал опасаться за участь бедного чиновника; барьер трещал под натиском арестантов. Даже привезшие меня жандармы не могли сдержать негодования по адресу «чужого ведомства»… К счастию, чиновник успел наскоро собрать свои бумаги и ускользнуть из канцелярии. Иначе трудно сказать, чем бы это могло кончиться.
А в это время губернатор (М-лов) с величайшим вниманием исследовал на огороде червей на кочнях капусты. Арестанты, зная об этом, просили меня, чтобы я заявил, что у меня есть до губернатора дело. «К вам он придет, — говорили они. — А мы тут хоть пропадай, ему все равно». Я согласился, но когда пришел смотритель, бывший с губернатором на огороде, то оказалось, что губернатор уже уехал… Смотритель обещал передать мое заявление, и это дало арестантам надежду, что при сем случае и они смогут заявить свои жалобы.
Я уже знал немного об этом губернаторе от некоторых томских ссыльных, возвращавшихся во времена «диктатуры сердца». М-лов сначала заигрывал с ссыльными. Один из них (Поспелов) писал корреспонденции и статьи в сибирских газетах. Узнав об этом, М-лов пригласил его к себе и выразил горячее сочувствие прессе. Но когда после этого появились корреспонденции, задевавшие томскую администрацию, то — приятные отношения кончились. Очевидно, его превосходительство считал, что выражение «сочувствия прессе» достаточно для того, чтобы застраховать свою губернию от неприятных обличений.
Мое заявление подействовало, и на следующий день его превосходительство посетил не только тюремный огород, но и самую тюрьму. Я придумал предлог: меня посадили в одну камеру с сумасшедшим, и смотритель заявил, что перевести меня в общую камеру не может без разрешения губернатора. Мой сожитель по камере был политический Рабинович, участник довольно громкого процесса, которого теперь везли, кажется, с Кары в казанскую психиатрическую лечебницу. Мне пришлось провести беспокойную ночь: Рабинович курил без перерыва принесенные арестантами папиросы, а потом, докурив последнюю, сидел на койке и, как автомат, повторял одну фразу:
— Папиросу мне… Нет ли папиросы? Послушайте, папиросу мне!
Я не мог уснуть до самого рассвета.
Наутро стало известно, что в тюрьму приехал губернатор. Арестантов загнали в камеры и заперли на замки. Предосторожность, как оказалось, была не лишняя. М-лов прошел прямо ко мне и прежде всего нашел беспорядок: сырое пятно на стене. Затем, выслушав мое заявление и приказав перевести меня в другую камеру, он вышел в коридор, в котором изо всех камер неслись отчаянные вопли:
— Ваше превосходительство!.. Зайдите к нам… И к нам, и к нам… И к нам!.. Имеем жалобы…
Весь коридор гудел, как растревоженный улей, а из некоторых камер неслись отчаянные вопли и даже удары в дверь. М-лов, человек худощавый, желчный, с обозленными глазами, видимо, смотрел на эти вопли как на крайние проявления беспорядка и даже бунта. Приказав открыть одну дверь наискосок от меня, он вошел туда, и я слыхал отрывками его жесткую речь. Мне было слышно не все, но то, что я слышал и что мне потом передали, поразило меня крайней степенью бюрократического цинизма. Содержание речи было кратко: «Кто вы такие?.. Арестанты, то есть преступники. На кого хотите жаловаться?.. На чиновников, то есть на царских слуг. Кому же я должен верить — преступникам или царским слугам?.. Поэтому — никаких жалоб!..»
Этот силлогизм, который, по-видимому, казался М-лову неопровержимым, закончил посещение первой камеры… Губернатор вышел, и конвойные после короткой возни захлопнули дверь. После этого вся тюрьма закипела старательно закупоренным в камерах негодованием и гневом, а губернатор, с резко сдвинутыми бровями и озлобленным против бунтовщиков лицом, проследовал дальше. Он приказал открыть еще одну камеру, из которой при его проходе арестант резко крикнул: «Где же у вас правда!..» Но и там дело закончилось такой же соломоновски краткой и безапелляционной губернаторской речью, а затем возней арестантов и конвоя. После этого выходной блок взвизгнул, затем коридорная дверь хлопнула, и посещение кончилось… Кого-то увели в секретную… Коридор некоторое время шумел и кипел, откуда-то слышались крики, ругательства, удары в дверь, а затем… понемногу все стихло. Камеры стали открывать для обеда. Тюрьма проголодалась.
Между тем достаточно было бы самого поверхностного взгляда, чтобы понять, что в «содержающей» далеко не все благополучно. Не говоря уже о вопиющих жалобах на задержку дел — никогда я не видал такой оборванной тюрьмы. Арестанты ходили в каких-то фантастических лохмотьях, и даже нижнее белье не всегда прикрывало наготу. Мне до сих пор вспоминается живописная фигура одного арестованного купчика, который, сидя в привилегированной камере, надевал крахмальную манишку и красный галстук, но, выставляя грудь, старался драпировать ноги полами изорванного халата. Среди жалоб, которые неслись из камер, слышалось между прочим: «Сами посмотрите, в чем мы ходим! Обносились до крайности».
Несмотря на то что губернатор сделал все, чтобы вызвать бунт, и что было несколько «беспокойных» арестантов, которые, очевидно, старались поднять тюрьму на какое-нибудь яркое выступление, — волнение скоро стихло. Мне объясняли сведущие арестанты, что шумела больше тюремная мелкота, «шпанка», а тюремная аристократия, «иваны», ее не поддержали. Смотритель, по-видимому, знал, с кем имеет дело. Он как-то радостно признавал свою вину, когда губернатор замечал пятно на стене или червяка на капусте, и в то же время умел ладить с влиятельными элементами тюрьмы. В тюрьме допускались кутежи и повальное пьянство, что подкупало «иванов»…
Меня перевели в «привилегированную», дворянскую камеру, и я получил возможность свободно ходить по всей тюрьме. Это была, собственно, первая тюрьма, которую я имел случай узнать поближе с ее уголовной средой, и мне приходится отметить несколько выдающихся эпизодов. Прежде всего я здесь увидел заключительный акт прошлогодней моей переписки с Фоминым. Читатель припомнит, что арестантский староста предупреждал меня тогда же, что арестант, через которого я вел эти пересылки, — подлец и надует Фомина. Так это и случилось: Фомин написал письма в Россию, сообщил, что он (его кличка была Ursus [7]) находится в тобольской одиночке, и просил прислать ему денег. Но так как на собственное имя Фомина (он его скрывал от начальства) выслать было нельзя, то он дал фамилию этого арестанта. Помнится, фамилия его была Семенов. Он оказался действительно мошенником. Срок его заключения близился к концу, и он должен был уйти из тюрьмы на поселение. Получив деньги Фомина, он их присвоил… Но тюремная Немезида уже протянула над ним карающую руку. Случилось так, что Семенов прибыл в томскую тюрьму как раз в то время, когда я находился там, и вслед за ним пришло сообщение о его поступке. Его стали жестоко избивать. Арестанты сообщили мне, что тут есть «изменник общества», который прячется под нарами, в пустых камерах… В конце концов он успел упросить смотрителя, чтобы посадить его в секретную. Я увидел его там в глазок и узнал старого знакомого. Он был плох: избили его жестоко, и — что хуже всего — ему предстояло еще несколько переходов, и на всяком его будут избивать… Его томили мрачные предчувствия: вряд ли дойдет живым. Он надеялся, что история разоблачится не так скоро и он успеет выйти на поселение, но надежда его обманула. У меня не хватило духу упрекать его, и я постарался через лиц, пользующихся доверием арестантской среды, смягчить отношение к нему арестантов. Но «измена обществу», каковой считался поступок Семенова в отношении Фомина, — к особому снисхождению не располагала. Дальнейшей судьбы Семенова я не знаю.