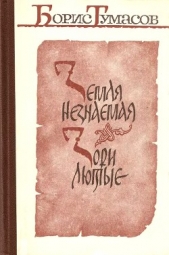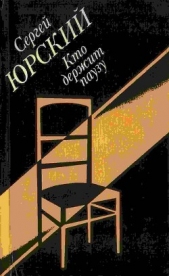Былина о Микуле Буяновиче

Былина о Микуле Буяновиче читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лениво и безрадостно текли былые дни житья-бытья на воле и привычны слезы безутешные в неволе. Не снимет шапки земледелец, не помолится, пока не разразится гром с грозою. А грянул гром, ударил град, побил созревшую пшеницу — покорно тянет лямку снова и украдкой ропщет на судьбу и долю да на божью волю.
Глух замученный был к слову вещему, безвреден к проповеди бескорыстной, враждебен красоте слепяще-незнакомой, и жесток к тому, что выше его разума.
Но думку о приходе чуда в глухоту полночную, но мечту о храме белом, о награде райской за страдания земные — все-таки берег на случай, и в тяжкий час отчаяния все видел сны волшебные и чудеса необъяснимые. А если и не видел, то придумывал и собственную выдумку носил с собою потайной ладонкой от всех напастей-злоключений.
Вот так оно все чудом и случилось…
Воля! Слово золотое и певучее, песенное, воровское и распутное — вдруг зажглось огнем от слова гулкого и страшного: война — побоище!
Пришла воля нежданно и негаданно, пришла в крови и в язвах, вшивая, больная и голодная, разбойничья и подколодная, и двери тюрем и острогов без ключа открыла настежь: выходи на божий свет вся рвань кандальная!
Вся каторга не верила, а вышла!
Чудо совершилось, но в чудо никто не верил.
Чуда никто не заметил, а все топтали его грязными ногами, разнесли по всем бескрайним далям на подошвах стоптанных лаптей и бродней.
Изнасиловали волю и убили понимание о справедливости — Да здравствует! Потеряли сердце, душу, совесть — Да здравствует! Изнасиловали чужих жен и дочерей, прокляли отцов и матерей, предали друзей, растлили детей — Да здравствует! Пошли войной и лютой казнью брат на брата — Да здравствует! Водворился голод и мор, и людоедство — Да здравствует!..
Да здравствует какой-то, чей-то малый-малый закон рабий. Рабий, потому что полный жадности безумной. Рабий, потому что устремленный через трупы братьев и сестер, через святыни всех истоков жизни к разрушению и отрицанию бытия. Рабий, потому что топчущий все лучшие цветы — нерукотворные дары чудес непостижимых!
Но здравствует воистину та Сила, которая столь властно держит всех рабов в таком, ничем неодолимом, ослепительном рабстве. Ибо ударом ножа в сердце брата отнял раб у брата последний кусок хлеба и вопит о подвиге во имя всего мира, сущего и будущего рая… Но сам же проклял раб все те миры и все земные и небесные и райские блаженства, которые ценой такого подвига рабов не тысячи, но миллионы.
Затрещали черепа рабов и господ, полководцев и мудрецов перед неразрешимою задачей новоявленного блага. И плача, и рыдая в жалости и скорби — повел брат брата к месту казни и, убивши, утешался скудными остатками его одежды.
Вот в какой одежде, вот с какими страшными очами встретила Микулу воля!..
Не долго пьян был радостью Микула. Скоро опьянел он от красного вина обильного, от любви дешевой с гнойными дарами, от богатства легкого, но громоздкого и опасного. И ударила по сердцу каторжанина обидно исказившаяся, дразнящая и распутно-пакостная воля. Перестал он верить в красные слова и в красное веселье и с отчаянной и нарочитою безбожностью — убил!..
Убил он первого из первых, похожего на того Проезжего, который некогда сманил, растлил и погубил сестру его, светлую Дуню… И убил второго, и еще убил!
Убивал из ненависти и для забавы, убивал из доблести и из мести, убивал по приказанию власти и из страха. И много убивал он, не считая.
А, убивая, уходил все дальше от родной земли, все быстрее убегал под пьяный посвист воли.
И менял он имена свои, менял начальников — учился осуждать их приказания, менял любовниц — познавал падение женщин, смешал доблесть с жестокостью, отвагу с трусостью, верность с предательством.
Но научился смело говорить и отрицать все непонятное, но научился властвовать.
И стал разбойником могучим, грозным, отважным и находчивым. И повырубленные, повыжженные, покинутые даже зверем леса муромские и уральские, сибирские или олонецкие, днепровские или безымянные спрятали собою его дружину — сброд трусливых и беспрекословных, одичалых и голодных, потерявших все тропинки к дому солдат и беглецов усталых. И вот исчез след о Микуле — разбойнике, а появился на жестоком стыке армий красной и белой — отчаянный и никем не уловимый атаман повстанческой зеленой армии Иван Лихой.
Вот о нем-то, в лицах, и пойдет наше последнее сказание.
Повезло Евстигнею Клепину, пчеловоду, садоводу и хозяину. Удалось усадебку свою сберечь от всех напастей и разорения. На войне был недолго, жена-хозяйка молодая и проворная и еще тесть, священник из ближайшего монастыря помогал и наблюдал. Всякими неправдами скотину, птицу ли, добро ли, в тяжелую минутку у себя в крепком монастырском дворе прятал. И вот вышло так, что стыдно стало за достаток, за сытость и довольство в страшные голодные года. Но как ни стыдно и ни страшно всяких реквизиций и налетов — все-таки хозяйство вел твердой рукой и неусыпно блюл все выгоды, какие мог дать труд, беготня и лукавая изворотливость. Жаль только, что дети не стояли — не для кого было хлопотать, но хлопотал уж по привычке. Без хозяйства — быстро бы зачах и заскучал в такое тяжелое время. Стал бы воин поневоле.
Летом даже ставни выкрасил — олифа стояла с четырнадцатого года. И если поглядеть на горку с дороги, от моста через небольшую, но быструю речку, домик красовался, как картинка, всем на зависть.
Слева — столбы возле крыльца, увитые зеленью, амбары крепкие, а предамбарье и навес — забиты всякой всячиной: лежат пустые ульи, подставка для десятичных весов, висит сбруя. Тут же стоит старый рессорный экипаж без колеса. Нарочно спрятал колесо, чтоб проходящие войска на экипаж не позарились. А из ограды и с крыльца далеко видна уходящая в глубь горная, лесистая даль.
Было лето. Над горами проплывали пушистые, особой радостью напитанные облака в виде величавых и седоголовых старцев, смотревших куда-то далеко за грань земли.
Субботний день клонился к вечеру.
Молодая и красивая, хотя бледная и озабоченная Клава Клепина в опрятном фартуке поверх светло-коричневого платья, вышла из дома на крыльцо и, перегнувшись через перила, выхлоповала скатерть. А Наталья, смуглая и сухая, в латаной юбчонке, пожилая баба в эту минуту пришла напиться. Зачерпнув из кадки кружку воды, проворчала:
— У-ух, да и вода же грязная! Не то куры в кадку понагадили.
— А речка-то, ведь, близко пойди да свежей принеси! — отважно вымолвила Клава.
— Близко, близко, а под гору — да на гору не емши-то далеко!..
— Сколько часов-то? — повернулась она к Клаве. — Поди, уж и пошабашить надо. Што-ето сегодня все устамши — сроку не дождемси. Где хозяин-то?
— Где-то запропал в монастыре сегодня. Сама дождаться не могу. С утра ушел.
— А кто разочтет-то нас сегодня? Он, ведь, нам сулил продуктами за всю неделю выдать.
— Уж я и не знаю. Кабана хотел сегодня резать.
— Вот мы и слышали про то, — подходя к крыльцу примиреннее заговорила баба и, вытянув сухую шею, зашептала: — А кто она, эта работница-то новая?
— Ой, смех и грех с ее работы, — и Наталья показала, дразнясь: — Ковырк! Ковырк! Как усе равно и лопаты-то во веки в руках не держала. И ручки тонюсенькие, да худы-ыя! Ой, Господи прости! А жалование, небось, как всем. А?
— Да, видать, что не привычна, — уклончиво сказала Клава.
— Из монастыря што ли? Худая-то уж больно. Будто веки вечные постилась. Хи-и!
— Сакулин, матрос этот, к нам ее привел, — складывая скатерть, говорила Клава. — Может, из монашек подобрал где. Распугали их теперь всех. По лесу прячутся, бедняжки.
Наталье как-нибудь хотелось потянуть время.
— Ох, и Сакулин этот мне чево-ето не глянется, — лукаво и непрошено болтала баба. — Из офицеров он, а не из матросов, как есть по всем речам. Вот увидите, што из офицеров.
— Что ж, ведь, и офицеру кушать надо. А работает он как?
— Да работает он проворно. А только што слова у него какие-то мудреные. А больше молчит.