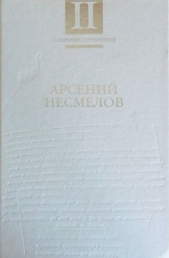Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924

Том 15. Рассказы, очерки, заметки 1921-1924 читать книгу онлайн
В пятнадцатый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1921–1924 годах. Все они, за исключением очерка «О Михайловском», входили в предыдущие собрания сочинений.
Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. В последний раз большинство из них редактировалось писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда Савва Морозов и я пришли к Тестову, Бугров уже сидел в отдельном кабинете у накрытого стола, два официанта в белом, как покойники в саванах, почтительно и молча суетились, расставляя тарелки с закуской. Бугров говорил одному из них, называя его по имени и отечеству:
— Дашь мне вино это рейнское — как его?
— Знаю-с!
— Здорово, Русь, — приветствовал он нас, а Морозов, пожимая ему руку, говорил:
— Пухнешь ты, Бугров, всё больше, скоро тебе умирать…
— Не задержу…
— Отказал бы мне миллионы-то свои…
— Надо подумать…
— Я бы им нашёл место…
Согласно кивнув головою, Бугров сказал:
— Ты — найдёшь, честолюбец! Ну-тко, садитесь!
Савва был настроен нервно и раздражённо; наклонив над тарелкой умное, татарское лицо, он торопливо, дробной речью, резкими словами стал передавать рассказ какого-то астраханского промышленника о том, как на Каспии истребляют сельдь, закапывая в песок берегов миллионные избытки улова.
— А из этого можно бы приготовить прекрасный удобрительный тук, рыбью чешую превратить в клей…
— Всё ты знаешь, — вздохнув, сказал Бугров.
— А вот такие, как ты, сидят идолами на своих миллионах и ничего не хотят знать о нуждах земли, которая позволяет им сосать её. У нас химическая промышленность не развита, работников для этого дела нет, нам необходимо устроить исследовательский институт химии, специальные факультеты химии нужны… А вы, дикари…
— Ну, начал ругаться, — примирительно и ласково сказал Бугров. — Ты — ешь, добрее будешь!..
— Есть — выучились, а когда работать начнём?
Бугров попробовал вино, громко чмокнул и заговорил, глядя в бокал:
— Очень много ты, Савва, требуешь от людей, они от тебя меньше хотят. Не мешал бы ты им жить.
— Если б им не мешать, они бы и по сей час на четырёх лапах ходили…
— Никогда мне этого не понять! — с досадой воскликнул Бугров. — Помыслили праздные люди: откуда человек? Решили: от обезьяны! И — радуются!
С удивлением и горечью он спросил:
— Неужто ты веришь в эту глупость? Да — ведь если б это и правда была, так её надо скрыть от людей.
Савва взглянул на него прищурясь и — не ответил.
— По-моему, человека не тем надо дразнить, что он был скот, а тем, что был он лучше того, каков есть…
Морозов усмехнулся, грубо отвечая:
— Что ж, — помолодеет старуха, когда ты напомнишь ей, что она девкой была?
Ели нехотя, пили мало, тяжёлое раздражение Морозова действовало подавляюще. Когда принесли кофе, Бугров участливо спросил:
— Ты что, Савва? Али плохо живёшь? На фабрике неладно?
Круто повернувшись к нему, Морозов заговорил тоном старшего:
— У нас — везде неладно: на фабриках, на мельницах, а особенно — в мозгах!
И начал говорить о пагубном для страны консерватизме аграриев, о хищничестве банков, о том, что промышленники некультурны и не понимают своего значения, о законности требований рабочих и неизбежности революции.
— Разгорится она преждевременно, сил для неё — нет, и — будет чепуха!
— Не знаю, что будет, — задумчиво сказал Бугров. — Жандарм нижегородский, генерал, дурачок, тоже недавно пугал меня. Дескать — в Сормове, на Выксе и у меня на Сейме — шевелятся рабочие. Что ж, Савва Тимофеев, ты сам говоришь — что законно. Скажем правду — рабочий у нас плохо живёт, а — рабочий хороший!
— Ну, не так уж, — устало проворчал Морозов.
— Нет — так! Народ у нас — хороший. С огнём в душе. Его дёшево не купишь, пустяками не соблазнишь. У него, брат, есть эдакая девичья мечта о хорошей жизни, о правде. Ты — не усмехайся, — девичья! Я вот иной раз у себя на даче, на Сейме, беседую с ними, по вечерам, в праздники. Спросишь: «Что, ребята, трудно жить?» — «Трудновато». — «Ну, а как, по-вашему, легче-то можно?» И я тебе скажу — очень умно понимают они жизнь. Может, не своим умом, а — научены, книжки у них появились, листочки из Сормова… Вот — Горький хорошо знает эти дела. Деньги берёт у меня на листочки. Я — даю…
— Не хвастайся, — сказал Морозов.
— Нимало! — спокойно возразил старик. — Против меня это, но я — даю! Конечно — гроши. Но, ежели и ничтожные цифры в этом деле заметны, — что было бы, если б мы с тобой все капиталы пустили в дело это?
— Вот пусти-ка…
— А — что? Соблазн в этом есть. Это будет озорство, а в озорстве — всегда соблазн есть.
И, постукивая кулаком по колену Морозова, наклонясь на стуле, точно для прыжка, он продолжал:
— Конечно — озорство, когда человек отказывается от себя самого, это я понимаю! Но — ведь отказываются, полагая, что тут — святость, праведность. Я таких знаю. И, может, даже глупости некоторых — завидую. Вот Горький рассказывал, что даже князь один, Кропоткин, что ли… Эх, разве не соблазн — сбросить с себя хомут…
— Чепуха всё это, Николай Александров, — сказал Савва.
Я внимательно наблюдал за Бугровым. Он мог выпить много и не бывал пьян, а тут он выпил лишь один бокал. Но лицо его болезненно разгорелось, болотные глазки, ярко позеленев, возбуждённо блестели. И, как бы задыхаясь, он говорил торопливо:
— Издревле человек чувствовал, что жизнь — непрочна, издавна хорошие люди бежали её. Ты сам знаешь — богатство не велика сладость, а больше — обуза и плен. Все мы — рабы дела нашего. Я трачу душу, чтоб нажить три тысячи в день, а рабочий — тридцати копейкам рад. Мелет нас машина, в пыль, мелет до смерти. Все — работают. На кого же? Для чего? Вот что непонятно — на кого работаем? Я — работу люблю. А иной раз вздумаешь, как спичку в темноте ночи зажгёшь, — какой всё-таки смысел в работе? Ну — я богат. Покорно благодарю! А — ещё что? И на душе — отвратно…
Вздохнув, он повторил иным словом:
— Отвратительно.
Морозов встал, подошёл к окну, говоря с усмешкой:
— Слышал я эти речи и от тебя и от других…
— Святость, может, просто — слабость, да она душе сладка…
Тяжёлый разговор оборвался, оба молчали. Он вызвал у меня странное ощущение: как будто в рот и в мозг мне патоки налили. У меня не было причин сомневаться в искренности Бугрова, но я не ожидал услышать из его уст сказанное им. Да, он и до этого дня казался мне человеком, жизнь которого лишена внутреннего смысла, идёт скучно, тёмным путём, покорно подчиняясь внешним толчкам привычных забот и отношений. Но всё-таки я думал, что человеческий труд высоко оценён и осмыслен удельным князем нижегородским.
Было так странно знать, что человек этот живёт трудом многих тысяч людей, и в то же время слышать, что труд этот — не нужен ему, бессмыслен в его глазах.
Невольно подумалось:
«Так жить и чувствовать могут, вероятно, только русские люди…»
Однажды я встретил его в маленькой деревушке среди заволжских лесов. Я шёл на Китеж-озеро, остановился в деревне ночевать и узнал, что «ждут Бугрова», — он едет куда-то в скиты.
Я сидел на завалине избы, у околицы; был вечер, уже пригнали стадо, со двора доносился приторный запах парного молока. В раскалённом небе запада медленно плавилась тёмно-синяя туча, напоминая формой своей вырванное с корнем дерево. В опаловом небе над деревней плавали два коршуна, из леса притекал густой запах хвои и грибов, предо мною вокруг берёзы гудели жуки. Усталые люди медленно возились на улице и во дворах. Околдованная лесною тишиной, замирала полусонная, сказочная жизнь неведомых людей.
Когда стемнело — в улицу деревни въехала коляска, запряжённая парой крупных, вороных лошадей, в коляске развалился Бугров, окружённый какими-то свёртками, ящиками…
— Вы как здесь? — спросил он меня.
И тотчас предложил:
— Айда со мною! Хороших девиц увидите. Тут, недалеко, скиток есть, приют для сирот, рукодельям девицы обучаются…
Кучер напоил лошадей у колодца, и мы поехали, сопровождаемые молчаливыми поклонами мужиков. Кланялись в пояс, как в церкви пред образом глубоко чтимого святого. Старики и старухи бормотали:
— Милостивец… Кормилец… Дай тебе господи…