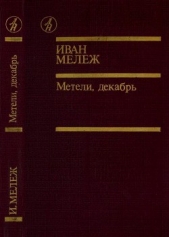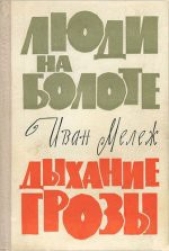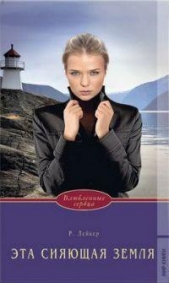Дыхание грозы

Дыхание грозы читать книгу онлайн
Иван Павлович Мележ — талантливый белорусский писатель Его книги, в частности роман "Минское направление", неоднократно издавались на русском языке. Писатель ярко отобразил в них подвиги советских людей в годы Великой Отечественной войны и трудовые послевоенные будни.
Романы "Люди на болоте" и "Дыхание грозы" посвящены людям белорусской деревни 20 — 30-х годов. Это было время подготовки "великого перелома" решительного перехода трудового крестьянства к строительству новых, социалистических форм жизни Повествуя о судьбах жителей глухой полесской деревни Курени, писатель с большой реалистической силой рисует картины крестьянского труда, острую социальную борьбу того времени.
Иван Мележ — художник слова, превосходно знающий жизнь и быт своего народа. Психологически тонко, поэтично, взволнованно, словно заново переживая и осмысливая недавнее прошлое, автор сумел на фоне больших исторических событий передать сложность человеческих отношений, напряженность духовной жизни героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Выйду в поле я — утренне-свежее…
Ой ты, ширь ты, колхозная ширь!..
Веет морем ржаное безмежие
Хмелем-радостью — песня души!..
Алесь сразу же замолчал и помотал головою — виновато, как бы прося прощения. Было заметно, что он почувствовал себя неловко, смотрел на дорогу уже с какой-то озабоченной неудовлетворенностью. Он тогда так и не понял, отчего Алесь смутился: потому ли, что видел еще в нем учителя, робел перед его судом; или потому, что — это позже пришло — чувствовал в душе неизбывное, давнее: стихи — будто забава.
Позже не раз замечал, что в Алесе, который напечатал не одно стихотворение, живет смущение за это свое занятие; вечная деревенская стеснительность перед людьми, которые делают другое, настоящее дело: сеют, косят, хлопочут р хозяйстве…
— Лучше других послушайте… — сказал Алесь виноватым голосом. Он покашлял, вскинул голову, почти зажмурил глаза, почувствовал вдруг, что мешает воротник кожуха, нетерпеливо отвернул его. Как бы задумался, а в голосе появились смелость и гордость:
Падают снежинки… Бриллианты росы…
Падают, белеют за моим окном.
Расчесали вишни шелковые косы,
Уронили наземь снеговой венок…
Где-то там в просторах отгремели громы.
Отцвели печали чьей-то лепестки.
И как будто снова приближаюсь к дому
Повидаться с теми,
Что навек близки.
Стихи удивительно волновали: какое-то непонятное очарование захватывало, увлекало, завораживало тихой задумчивостью музыки, необычными, как морозные узоры на окне, картинами-видениями, задушевным, убежденным голосом того, кто читал…
Когда Алесь кончил, захотелось помолчать, подумать. Самого потянуло на воспоминания, на раздумья. Уже погодя спросил:
— Чьи это?
— Павлюк Трус! — сказал он с восхищением, с гордостью — Наш, из университета… студент наш…
— Хорошее стихотворение!..
— Это — большая поэзия!
В памяти долго жила, не исчезала не совсем понятная, грустная строка: "Отцвели печали чьей-то лепестки…" — строка, почему-то особенно волновавшая, заставлявшая думать о недосягаемых тайнах поэзии.
— Почему теперь некоторые пишут красиво и… как бы сказать — не просто… туманно?.. — спросил он тогда и пояснил: — Вот у Пушкина все просто: "Буря мглою небо кроет…" Или — "Во глубине сибирских руд…".
— Пушкин — хороший поэт. — Алесь остановился, заду-1 мался — как лучше сказать? Поправил себя: — Он был хороший поэт. Но он устарел. Отжил свое. Теперь у поэзии — новые законы.
Современные… Все меняется. Изменились и законы поэзии…
— А Купала? У Купалы ведь тоже все просто. И современный, а все просто, ясно. — Апейка припомнил: — "Среди пущ и болот белорусской земли…"
— Это из его дореволюционных стихов. Теперь и у Купалы другие мотивы и стиль другой. Возьмите его «Орлятам». Купала также старается идти в первых рядах новой поэзии. Но ему нелегко освободиться от старого…
Возражая, Алесь говорил мягко, без какой-либо амбиции, в тоне его чувствовалось не только уважение к бывшему учителю, а и добрая, не растраченная в городе скромность. При всей деликатности своей, все то, что говорил, Алесь говорил твердо, убежденно. Он, Апейка, сам возражал ему мягко, как бы осторожно, можно сказать, не столько и возражал, сколько высказывал свои сомнения, не утрачивал ощущения:
ученик вырос! В чем-нибудь другом Алеся, видать, поучить можно, а что касается поэзии, то здесь и прислушаться нелишне. Прислушаться да поразмыслить.
— В каждую эпоху, — терпеливо объяснял Алесь, — в поэзии были свой строй, свой язык. У Пушкина — одни, у нас — другие… Меняется время, меняется и поэзия…
В наши дни этот закон действует еще сильнее: наше общество не похоже ни на одно из тех, что были раньше! Это ставит и особые, необычные задачи перед поэзией! Нашим поэтам надо говорить так, как до них не говорил никто! Отсюда и вся радость и вся трудность!
Долго ехали молча; только размеренно, споро рубили смерзшийся, укатанный снег лошадиные копыта, скрипели гужи, бежали навстречу заснеженные деревья, кружилось поле. Алесь снова поднял воротник, спрятал маково-малиновые уши, вбирал блестевшими глазами изменчивую яркую красоту дороги.
Говорили еще немало, но уже не о литературе: вспоминали школу, товарищей Алеся; Апейка рассказывал о своих исполкомовских делах. В разговорах незаметно доехали до леса, перед которым дорога расходилась на две: одна — в сторону леса, в сельсовет, а другая — через лесок же — к уже недалекому родному селу Алеся. На развилке Алесь соскочил. Он, Апейка, сказал, что мог бы подвезти и до дому, но парень замотал головой: "Не надо, добегу сам. Тут близко". Вскинул на плечо фанерный сундучок, благодарно помахал рукой; в кожушке, в сапогах, фасонистой шапчонке, то шагом, то бегом направился дорогой к дому. Отдаляясь, оглянулся, помахал рукою…
В молчаливом лесу, в чуткой, звонкой тишине, долго и радостно думал: вышел парень в большой мир, расправляет крылья. Вот и нещедрая на хлеб и на писателей болотная полесская земля начинает давать миру поэтов. Пусть он еще только пробует голос, пусть его пока не очень слыхать, — кто знает, как он взлетит потом, когда окрепнут крылья, когда наберется сил. Кто знает, может, там, краем леса, в залатанном кожушке и шапке с пуговкой идет будущий Янка Купала или Никитин. "Нас и дети наши вспоминать со временем перестанут, а он, парень этот, может, в народе, в мире вечно жить будет — словом своим, стихами своими…"
…Это было уже совсем недавно, летом. Случайно узнал, что парень снова приехал домой, живет у матери. Когда понадобилось наведаться в одну из близлежащих деревень, нарочно свернул к Алесю. Не повезло: вошел на пустой двор, дверь в хату была на задвижке. Помогла девушка-соседка:
увидев «дядьку», что оглядывается во дворе, побежала за матерью Алеся та копалась за гумном, на огороде. Мать, вытирая руки о фартук, радушно пригласила в хату, но он не пошел: сказал, что заехал ненадолго, только навестить сына.
Присели на теплой завалинке, под липою…
— Исхудал совсем… — высказала ему боль старуха. Губы ее, сухие, потрескавшиеся, жалостливо дрогнули, но все ж она сдержала слезы. Чахотку признали. Процесс, говорят…
Апейка, и сам встревоженный, попробовал, как мог, успокоить ее.
— Учился, учился и вот — выучился. — Рассудительно горько подумала вслух: — Постнятина, известно. В городе, говорят, голодно много кому. А ему, без помощи, дак и вовсе.
А он с малых лет некрепкий здоровьем, вечно недоедал. А тут еще до науки такой падкий, иссушал все голову…
— Ничего, Марья Матвеевна. Вылечится. В Минске доктора хорошие. Первого сорта специалисты. Больницы хорошие, под хорошим присмотром будет. Вылечится, не горюйте до поры. Только вот поддержите питанием пока. Берегите — человеком большим становится. Гордиться сыном своим можете.
Алесь пропахивал картошку. Вскоре уже сидели вдвоем на обмежке; видел его исхудалое, почти без загара лицо, узкие и острые белые плечи, домотканые, коротковатые уже штаны с заплатами на коленях, белые, с налипшей землей ноги. Он был голый до пояса, ясно выделялись ребра под белой кожей, было видно, какой он худой и чахлый.
Сестра, водившая коня, только на минутку приблизилась, поздоровалась и снова направилась к коню — пасла его в отдалении. И сидели и говорили на обмежке вдвоем.
— Почему не зашел, когда ехал сюда? — упрекнул его дружески.
— Я заходил. Вас не было. "В районе", — сказали…
— Передал бы или записку оставил бы что приехал. На родине…
— Мало у вас хлопот без меня! Я думал было черкнуть два слова, а потом решил — не надо…
— Скажи — поленился. На первый раз даю выговор. В другой раз, если такое повторится, будет хуже. Запомни…
Он улыбнулся:
— Запомню.
— Надолго сюда?
— На месяц.
— Больше надо. На вольном воздухе надо побыть. Оюродом попользоваться. Зеленью свежей.
— В редакции просили. В газету я устроился. Работать надо. Летом разъезжаются все. Из-за этого, главным образом, и взяли меня. Ну, и когда подработать, как не летом!