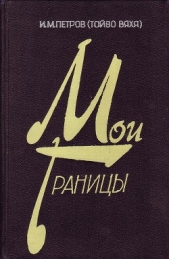Воспоминания
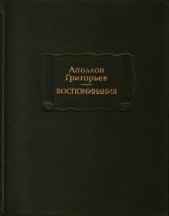
Воспоминания читать книгу онлайн
Ап. Григорьев хорошо известен любителю русской литературы как поэт и как критик, но почти совершенно не знаком в качестве прозаика.
Между тем он — автор самобытных воспоминаний, страстных исповедных дневников и писем, романтических рассказов, художественных очерков.
Собранное вместе, его прозаическое наследие создает представление о талантливом художнике, включившем в свой метод и стиль достижения великих предшественников и современников на поприще литературы, но всегда остававшемся оригинальным, ни на кого не похожим.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, — отвечал Виталин, — а давно ли он был?
— На днях.
— Я ему отослал долг вчера.
— А! отослали… Были вы в субботу в Михайловском? отчего вы не бываете в Михайловском?
— В это время все денег не было, — отвечал Виталин.
— А в Александрынском бываете? Нет, — продолжал Червенов очень громко и как бы сердясь, — вы не бываете в Михайловском потому, что вы человек выше других людей, что вам это кажется trop commun. [55]
— Вы не в духе сегодня, вы больны, мой милый Червенов, — отвечал ему Виталин, спокойно и улыбаясь.
— Прощайте, однако, — сказал, вставая, Червенов.
— Куда вы?
— Мне пора, я к вам только на минуту.
Виталин дружески протянул ему руку.
Он ушел.
Виталину стало странно грустно. Ясно, что этот человек искал в нем какого-нибудь больного места, но Виталину было грустно не от этого. Истощенное, больное лицо Червенова, бессвязные речи, желтый цвет кожи — все говорило, что этот человек болен нравственно и физически. Он давно был знаком с ним и никогда не мог, подобно другим, бросить в него, камень. Он видал его, когда внешние обстоятельства были для него хороши, и видал его тогда иным. Эта больная подозрительность, следствие самоунижения, следствие потери веры в собственное достоинство — могла скорее заставить плакать, чем рассердить. Червенов был умен, не тем умом, который приобретается, но умом врожденным, т. е. чрезвычайно редким умом, и между тем он мог даже сомневаться в этом уме, унижать себя до того, чтобы в другом умном человеке отыскивать презрение к себе, — но, несмотря на это, Виталин не в силах был отречься от него. Виноват ли был этот человек, что в его природе лежала наклонность импонировать, что он падал под бременем обстоятельств и так же бы легко встал при других условиях? Азбучная истина, что несчастие делает человека лучшим, справедлива только в отношении к ограниченным и пошлым личностям.
Посещение Червенова произвело на Арсения скверное впечатление; он насилу мог опять начать писать.
Через несколько минут дверь опять заскрипела, и в нее выглянуло лицо с рыжею бородкою клином.
Виталин обернулся…
— Что тебе? — закричал он с досадою, узнав хозяина своей квартиры.
— Да как же-с? Вы обещали вчера еще, — проговорил тот.
— Завтра, — отвечал Виталин решительно и захлопнул дверь.
Но непосредственно за этим он оделся, собрал лежавшие на столе бумаги, положил их в карман своего пальто, запер комнату и ушел, взявши ключ с собою.
VI. Воображаемый журнал, редактор его и сотрудники
Недели через полторы после описанного нами утра известный уже нам Искорский, тщетно проискавши Виталина по всем заведениям, которые, сколько знал он, любил посещать сей последний, и только что возвратясь, измученный, прозябший и проголодавшийся, из последнего, отчаянного путешествия в 17-ю линию Васильевского острова, — вошел в свою комнату, с физиономией вдвое более сжатой против обыкновенного, и, заперши ключом дверь извнутри, сбросил с досадою свое синее пальто и в видимом волнении кинулся на диван.
Привязан ли был он слишком к Арсению и, находя в его безумствах оправдание собственных, любил в нем самые недостатки, — или обстоятельства слишком связали его жизнь с жизнию Виталина, но дело в том, что даже в эту минуту не мог он сердиться на него серьезно; он понимал слишком хорошо, что если Виталин теперь не у него, значит, Виталин не может, не в силах делать что-нибудь, не может потому, что ему лень, а лень — так принимали они оба — всегда невольна, всегда следствие болезни. Итак, он не сердился на него в эту минуту, но ему было досадно за него, досадно то, что в это время, по всем его расчетам, Виталин успел уже создать десять новых легенд о себе в уме квартирных хозяек своих приятелей, наделать бездну долгов и рассказать, по слабости характера и по неограниченному самолюбию, много будущие возможного за настоящее действительное. Притом же хозяин Виталина до того надоел ему своими жалобами, что он не мог равнодушно его видеть.
По коридору, ведущему в его комнату, послышались чьи-то шаги. Искорский поспешил затаить, по возможности, самое дыхание.
— Искорский, — раздался за дверью знакомый голос, — это я, — отвори.
Искорский поспешил встать и отпереть. Вошел Виталин.
Он был бледен, на его лице было видно болезненное утомление, его глаза были странно мутны.
— Откуда ты? — был первый вопрос Искорского…
— Мало ли откуда, — отвечал Виталин рассеянно, садясь на противоположный диван.
— Ты обедал? — спросил опять Искорский.
— Да.
— Где?
— Там… у одного знакомого.
— Да вздор, не обедал…
— Когда я тебе говорю, что обедал…
— Где ты был полторы недели?
— А что? меня искали?
— Хозяин надоел просто.
— Нет ли писем?
Искорский вынул из ящика стола одно маленькое письмо, запечатанное черной печатью.
Виталин молча взял его, распечатал и, пробежавши, положил в карман.
— Только? — спросил он холодно.
— Только.
— Послезавтра идет моя драма, — начал Виталин. — Получивши деньги, я уезжаю тотчас же из Петербурга.
— Куда?
— В Сибирь.
Виталин подал Искорскому с этим словом письмо, которое тот пробежал тотчас же.
— Безумие! — сказал Искорский, отдавая письмо назад.
— Не думаю.
— А я знаю, — продолжал тот, — а я вижу отсюда, что из всего этого будет. Дело конченное и решенное, что ты не в состоянии еще успокоиться.
— Я?.. а пора бы! — отвечал Виталин с горькою улыбкою. — О нет, — сказал он, — вон, вон отсюда, поскорее вон отсюда. Чего мне ждать теперь? Да и глуп я был, когда ждал чего-нибудь прежде!.. Там, по крайней мере, мне останется только скучать.
— Что за отчаяние?
— Что за отчаяние? хорош вопрос! Да неужели тебе самому все это не надоело? Чего ждать? все одного — страдания.
— Да разве не везде одно и то же, по крайней мере для тебя и для меня?
— Говорю тебе: там мне будет полная свобода скучать и хандрить.
— О старом вздоре?
— Хотя бы и о нем.
— Славная цель, однако! Но тише, — прибавил Искорский, — сюда идут.
В коридоре снова послышались шаги, и казалось, двух человек… Вскоре за дверью раздался резкий и повелительный голос: «Это я, отворяйте!».
— Редактор *, — прошептал Искорский, и губы его сардонически сжались на минуту. Он подошел к двери и повернул ключ.
В комнату вошли два человека.
Один из них обладал наружностию, которую я назову воинственною, потому что не умею иначе назвать ее, да и потому еще, что привык на все смотреть через призму табели о рангах. Он был еще очень молод и по всем признакам страшно недоволен своею молодостию; бледным и слабым, совершенно финским очертаниям его лица сообщали выразительность только усы, возделываемые с бесконечною любовью. Движения его были резки и каждое из них, казалось, говорило «каков я, а?…». Он часто пристукивал каблуками, что, впрочем, за недостатком шпор не производило желаемого эффекта. На его лице вечно сияла улыбка неизменного самодовольствия; его речь была чрезвычайно резка и через три слова приправлялась постоянно выражениями, никогда не видавшими печати.
Другому господину, вошедшему с ним вместе, было, казалось, лет. под пятьдесят. Он был довольно полон и невысок ростом; его несколько лысая голова, его полное и круглое, даже несколько распухшее лицо, нос красный к оконечности высказывали его натуру с первого раза: никогда, может быть, вы не вспомнили бы так ясно Шекспирова Фальстафа, как при взгляде на этого человека. Его припрыгиванья, так несообразные с летами, его претензии на светскость и изобилие — и вместе с тем летний костюм в половине зимы — все это представилось бы вам чрезвычайно комическим, хотя при более долгом наблюдении едва ли бы смех ваш не заменился глубоким, болезненным состраданием. И не одно то только поразило бы вас грустию, что этот человек не вынес ничего из своей долгой жизни, кроме беспутства и претензий на светскость… нет! вглядевшись в него пристальнее, вы уловили бы в нем искру еще не совсем заглохшего ума и, может быть, еще человеческого страдания… И в самых претензиях его на светскость и изобилие проглянуло бы вам, может быть, сознание ложности положения, хотя это сознание и приняло, от бесхарактерности, чудовищную форму. Отношения его к первому описанному нами лицу с первого взгляда казались слишком унизительными; видно было, что он сам понимает это унижение, что он презирает того, перед кем он унижается, — но что искушение хорошего обеда сильнее в нем мысли о человеческом достоинстве.