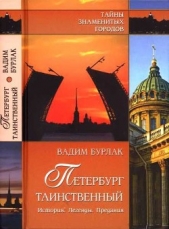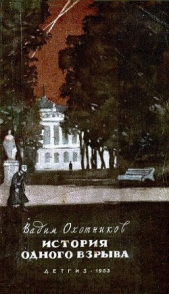История одного путешествия

История одного путешествия читать книгу онлайн
Книга Вадима Андреева, сына известного русского писателя Леонида Андреева, так же, как предыдущие его книги («Детство» и «Дикое поле»), построена на автобиографическом материале.
Трагические заблуждения молодого человека, не понявшего революции, приводят его к тяжелым ошибкам. Молодость героя проходит вдали от Родины. И только мысль о России, русский язык, русская литература помогают ему жить и работать.
Молодой герой подчас субъективен в своих оценках людей и событий. Но это не помешает ему в конце концов выбрать правильный путь. В годы второй мировой войны он становится участником французского Сопротивления. И, наконец, после долгих испытаний возвращается на Родину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В темноте я нащупал какой-то четырехугольный предмет, вероятно комод, уже вытащенный на середину комнаты. Он оказался не слишком Тяжелым, и мне удалось не только подтащить его к окну, но даже вывалить наружу. Один из ящиков выпал, и на землю посыпалось аккуратно сложенное белье — красные подштанники распластались, как кусок обрубленного тела. В комнате становилось невыносимо дышать от клубов невидимого в темноте, горького дыма. На площади перед домом, в толпе, поднялся крик, и я подумал, что скоро должен обвалиться потолок. Я выскочил наружу, но потолок продержался еще минут десять, показавшихся мне бесконечными. Языки пламени охватили крышу с четырех сторон и вели на ней свой яростный хоровод. Наконец потолок рухнул, с веселым треском подняв к самому небу оранжевые и желтые фонтаны брызг. Синий огонек, как белка, метнулся по сухим ветвям огромного дерева.
Я еще с полчаса потолкался около пожарища, втайне надеясь, что загорятся соседние дома, но после того, как обрушились тонкие деревянные стены, огонь ослабел, оранжевое зарево превратилось в красное, потом в малиновое, обгоревшее дерево с поднятыми к небу руками растаяло в темноте. На площади зажглись фонари, которых я до сих пор не замечал. Герша я нигде не смог найти.
У меня в кармане еще оставалось пятнадцать пиастров. Я зашел в маленький русский ресторанчик — томила жажда, а все соседние колодцы были выпиты пожаром. Но прежде, чем подать заказанный чай, меня заставили умыться — все лицо у меня было исполосовано сажей. Чай мне показался необыкновенно вкусным. Вязкая халва нежно липла к зубам, весь рот был наполнен чудесной сладостью. После того, как я выпил третий стакан чаю, денег у меня осталось ровно на то, чтобы купить пачку крепких папирос. Целую неделю после пожара от моей шинели горько пахло дымом, но ее фосфорическое сияние, так удивлявшее меня в темноте, сильно поблекло.
5
Так бывает иногда: проснешься глубокой ночью и вдруг потеряешь представление о месте. Глаза видят только мрак, мутнеет голова, путаются мысли, и нужно большое усилие воли для того, чтобы слепою рукой нащупать стену. Но как только рука коснется стены, невидимые предметы вдруг занимают привычные места. Проходит стремительное головокружение, и с невольным изумлением думаешь, как можно было не знать, что стена слева, а справа закрытые занавесками окна.
В первый раз я нащупал спасительную стену, когда услышал турецкую девочку, ее куцую песенку: «Та-та-та, ти— ти-тн, ло-о-о…» Вторично такою стеной оказался для меня лицей — наша комната, дружба с моими сверстниками, чтение стихов. Однако мое вхождение в лицейский быт, общение с товарищами были совсем не такими простыми, как это могло показаться вначале. Как я уже говорил, большинство лицеистов провоевало много лет, и мое краткое участие в гражданской войне в Грузии в их глазах никак не казалось достаточным для того, чтобы разделять с ними то, что они считали своей славой. Я принадлежал к другой среде, получил иное воспитание, ж общего языка с большинством лицеистов у меня не было. Некоторые «заповеди чести», присущие военной среде, — например, глубокое убеждение в том, что если офицеру дадут пощечину, то он должен либо убить обидчика, либо покончить с собой, — мне казались дикими. В политических спорах я оказывался в одиночестве, и мне приходилось избегать их. Только в нашей небольшой литературной группе, где выше всего ставилось искусство, возможны были споры, но так как мы были молоды и каждый считал свой вкус непогрешимым, дело доходило чуть не до драки, — однажды мне здорово попало за то, что я защищал стихи Ахматовой. Война отучила нас от уважения к человеку.
Достать книгу в Константинополе было невозможно — книг попросту не было. За все мое сидение в Китчелийском лагере я видел одно-единственное печатное издание: «От двуглавого орла к красному знамени» — первый том бесконечного романа генерала Краснова.
Этот роман пользовался огромным успехом среди белого офицерства. Мнения разделились: знавшие придворную жизнь говорили, что Краснов превосходно описывает войну, но не знает придворной жизни, а рядовые офицеры утверждали, что войны он не знает, но зато двор… Роман был написан хлестко и увлекательно. Однажды, когда я еще жил в лагере, я сделал попытку достать хоть какую-нибудь книгу. Аркадий Аверченко в русской константинопольской газетке отметил вторую годовщину смерти отца. В этой же газете время от времени указывался адрес кабаре, в котором Аверченко выступал вместе со своей труппой. Я отправился туда, но ничего у меня не вышло: Аверченко встретил меня неприветливо — на его круглом безволосом лице застыла гримаса досады и пренебрежения:
— Одолжить книгу? Ну что вы, батенька мой, книгу же вы мне все равно не вернете.
И после моих протестов:
— А вдруг вас грузовик переедет? Тогда уж прощай моя книга.
Вынув из кармана золотой портсигар, украшенный монограммами, он достал папиросу, потом, проведя портсигаром у меня под носом, сказал:
— Вы ведь не курите?
И быстро спрятал портсигар обратно в карман.
В лицее отсутствие книг было мучительным: когда Клингер принес тоненькую книжечку Волошина «Демоны глухонемые», он ее никому не дал, не лучше Аверченко. Володе удалось в его присутствии переписать несколько стихотворений. Иногда Володя часами «занимался» с нами: каждый по очереди диктовал ему все, что он помнил. Понемногу создалась совершенно необыкновенная антология, в которой причудливо смешались стихи Дитерихса фон Дитрихштейна — того самого, которого недавно в «Траве забвения» вспомнил Валентин Катаев, — Некрасова, Блока — и никому не ведомой Волынцевой, писавшей о том, «как пахнут гиацинты в день причастья». Эпиграфом к антологии служило стихотворение поэта, имени которого я не помню:
Раскрытая книга нам только снилась. Электрическая лампочка слабого накала, болтавшаяся под самым потолком, еле освещала большую комнату с оборванными обоями, в которой мы жили, а ласковый вечер того и гляди мог обернуться дракой.
…Когда в лицее узнали об отъезде Герша, было решено устроить ему проводы. Денег не было, не было их и у Герша, истратившего последние сбережения на билет до Тегерана. Мы связали Герша, стянули с него брюки, Бойченко, считавшийся у нас самым пронырливым, понес их на толкучку, а Герша засунули в матрац, из которого вытрясли соломенную труху. Из полосатого мешка высовывалась только его большая голова. Очки во время борьбы Герш потерял, и его близорукие глаза смотрели беспомощно и грустно.
— Черти, — просил он, — без брюк я как-нибудь доеду, но без очков я ведь ни одной двери не смогу найти…
Понемногу все устроилось — нашлись не только очки с погнутой дужкой, но кто-то даже пожертвовал штаны, до сих пор еще не проданные, — слишком уж были они дырявы. В этих штанах, подвязанных веревкой, Герш отправился в Тегеран. Больше о нем никто из нас не слыша. Я даже не знаю, добрался ли он до Тегерана…
Электрический свет был потушен.
— Так будет приличнее, — сказал Володя, — дырявые штаны будут меньше бросаться в глаза.
В горлышко пивной бутылки засунули огарок оплывшей свечи. В полумраке на стенах плясали уродливые тени. Вскоре, как всегда неожиданно, появился Клингер, и сразу начались литературные разговоры.
— Найдите эпитет к слову «туман», — говорил Клингер, сразу обращаясь ко всем, устроившимся около стола, на котором стояла бутылка разбавленного, еще теплого спирта и лежали нарезанные ломтиками помидоры. — Но только оригинальный эпитет, а не какой-нибудь там «волокнистый» или «густо».
— Мертвый, — сказал Резников.
— Непрорубный, — предложил я, сам чувствуя, что завираюсь.