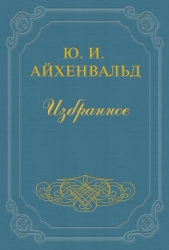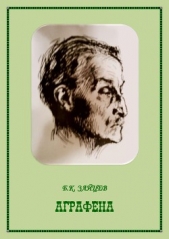Земная печаль

Земная печаль читать книгу онлайн
Настоящее издание знакомит читателя с лучшими прозаическими произведениями замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 —1972). В однотомник вошли лирические миниатюры, рассказы, повести, написанные в 1900-х — начале 1950-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Помню, вечером я сидел у себя на балконе. По Рейну бежали огоньки — пароходики; под гигантским мостом он гудел глухо и внушительно. Вода лилась под его черные быки, как в вечность, и такой же представилась мне наша жизнь, в частности моя, направленная чьей‑то мощной рукой по новому руслу — и неизвестно куда мчащаяся. Здесь, среди древнего города, в одиночестве, я мог яснее, как мне казалось, оценить ее и сказать о ней слово. Было ли хорошо, или плохо, что мое существование меняется? Я не знал. Но одно мне чувствовалось: если бы не пришла революция, новое и жуткое, что было в ней, я скоро стал бы задыхаться в своей благоустроенной клетке. Так что, может быть, и хорошо, что в Париже меня ждет беспокойная жизнь, полная тревог, неожиданностей, тягостей. Что же, я буду политическим эмигрантом? Про себя я улыбнулся. Хорошо, я люблю свою страну, ее свободу, но политик ли я? Что я: член партии, орудие центральных комитетов, демагог? Но ведь это до смешного не так. «Что же там будет? — думал я. — Чем я буду жить?» Я так ничего и не надумал, а той теплой весенней ночью снова бродил по Кельну, слушал его смутный гул, вдыхал запахи — смесь легкой сигары с овощами или свежей листвы на бульварах, видел, как дробятся звезды в бледном Рейне и собор темнеет.
Так, ни до чего не додумавшись, я уехал на другой день в Париж — к тому новому, чего никак не представлял себе заранее. Париж просто казался мне туманным гигантом, несколько жутким.
Но жуткого в нем ничего не оказалось. Явилась Анета; под ее руководством все сразу приняло нормальное течение, только на заграничный манер.
Анета устроила нас в улице Vavin, близ Люксембурга. Мы сняли небольшую квартиру, разумеется, с камином и часами на нем, с огромной кроватью в спальне, с жалюзи, узкой винтовой лестницей и Альфонсиной, которая смотрела на нас сверху вниз. Но Анета быстро прибрала ее к рукам, и быт наш, к великому удивлению прислуги, да и моему также, принял сразу французский характер: за завтраком пили плохонькое вино, ели овощи и кусочек gigot de mouton [137]; вовремя обедали, ходили в кафе, не пили даже почти чая, и только иногда земляки приходили и смущали Альфонсину; я же с ними не сошелся.
Я ведь оказался в Париже в виде политического изгнанника. Как в Москве некогда у нас бывали либералы, так и теперь появились эс–эры, эс‑де и синдикалисты, последнее слово революционной техники.
Так как я ни к кому не примкнул, то на меня скоро перестали обращать внимание и адресовались больше к Анете: я просто недалекий муж, с которым нечего церемониться. Да они были и правы: верно — меня мало занимали их партийные распри. Даст ли Бог победу меньшевикам, большевикам или отзовистам, меня мало интересовало. Я следил за Россией, болел за бедный свой народ, бедную страну, о которой судили здесь вкривь и вкось, с преувеличениями, ходульными словами, часто свысока и редко с любовью — и свое положение оценивал так: родину я не предам нигде, ни под каким небом не забуду я русских полей, перелесков, Москвы, взгляда русской женщины. Но ведь надо сознаться, что здесь я только потерпевший аварию, и сколько ни тоскуй, я не внесу света и радости в свой далекий край. Может быть, меня захватило уныние, всегда следующее за неудачами, может быть, во мне никогда не было борца — я не знаю, но чувствовал я так. Разумеется, жизнь сделала в России последнего времени большой сдвиг, и эта же жизнь, по законам, ей данным, проведет нашу страну туда, куда нужно истории. Но ни я, ни те маленькие люди, которых я видел теперь, ничего не увидят и ничего не сделают. Их горсть, они от всего отрезаны, в большинстве недаровиты; лучшие из них несчастны, худшие ничтожны. Тяжела их судьба.
Между тем мой патрон и здесь поставил свою работу на твердую почву. Мы открыли в Париже бюро, как бы консультационно–адвокатское, и дела наши пошли недурно. Клиенты у нас были и из русских, и французы. Всех мы обслуживали по возможности тщательно; работать приходилось довольно. Но все‑таки у меня было время, и интерес был к Парижу, к чужой жизни.
Как и многим — Париж показался мне лучше его обитателей. Есть величие в этом сухощавом, трудовом и очень мужественном городе. Он — для людей крепких и немечтательных, но он имеет свое, ни на что не похожее. Есть в нем площади мирового значения, есть места, где можно чувствовать Революцию, Наполеона; есть священные мансарды — кельи Руссо и Бальзаков.
Все же склад и дух жизни тут суровее, пустее, чем у нас. Здесь абсолютно все знают, чего хотят, — хотят осуществимого и среднего, и добиваются его, при труде и усердии. Власть, деньги, наслаждения определяют здешнюю жизнь с черствостью, которой не знаем мы. Потому мы тут всегда в загоне и всегда побежденные. Потому, с другой стороны, нам дышать здесь нелегко. Чтобы быть принятым гением здешней жизни, надо с молодых лет назначить себе размер ренты, которую хочешь получать к старости, и на этом построить бытие.
У меня было такое чувство, что и политики, и ученые, и рабочие, и купцы — все живут так. Не такова, конечно, русская эмиграция, но в ней все же мало интересного и много горького. Так что ни те, ни другие не могут дать образца жизни. А между тем мне, надеявшемуся, что новое пахнет освежающе, тяжело было видеть, что все и вокруг, да и у нас как‑то ниже уровня последних месяцев в России. При этом меня удивляла Анета. Как нравилось ей в России маршировать в ногу с революцией, так тут она легко вошла в эту чужую жизнь — где тоже, конечно, были страшные слова, синдикалисты и эс–эры, но уже все совершенно безопасное, безвредное и пресное. Здесь не было воодушевления. Да мне казалось, что и не к этому, в конце концов, лежит ее сердце — а к влиянию, к желанию иметь в хорошей квартире хорошее (с именами) общество радикальной окраски. Это ведь тоже цель, тоже такая достижимая цель! И мне почему‑то стало представляться, что хорошо бы Анете быть замужем не за мною, а за каким‑нибудь приятным французом демократического толка, который бы служил в министерстве общественных работ и надеялся под старость получить директора департамента. Но все это — непременно с хорошими словами и пользой для народа. Я уверен, что Анета была бы ему отличной помощницей. Она устроила бы салон раз в десять шикарнее нашего.
Таким образом, чем дальше шла наша жизнь, тем менее она мне нравилась. И к концу года, проведенного в Париже, я стал замечать в себе мысли, раньше не приходившие мне. Я стал задумываться над тем, что всегда беспокоило людей и будет вечно их беспокоить: так ли я жил и живу, как надо, а если не так, то как именно должен жить.
Мои рассуждения приблизительно таковы: я уже в зрелом возрасте, я муж, отец, член общества. Но что собственно я сделал? Я любил, когда был молод, это во мне естественное действие сил природы; у меня есть дочь, результат действия этих сил. Есть дело, которое я делаю потому, что среди людей моего общества считалось приличным, чтобы я выбрал интеллигентный и либеральный вид труда. Но ведь я его не люблю, надо сознаться. Неужели свою жизнь, половина которой уже прошла, я употреблю на добывание денег, комфорта, известности, что ли? Неужели после rue Vavin будет rive droite [138], «приличная» жизнь [139] двуспальные постели, хорошее вино, дородность… из‑за чего же тогда стоило хлопотать?
Не скрою, что мне хотелось чего‑то большего, высокого — быть может, творчества, или служения ценностям, как говорят люди умные, стоящим над жизнью. Но я не имел никакого Божьего дара, мог только завидовать (единственно, кому я завидовал в Париже) тем мансардным художникам, философам, писателям, которые тоже знают свой путь, но путь которых — бесконечен, и те, кто идет по нем, подобны крестоносцам.
Помню, что случайно, размышляя в этом настроении, я раскрыл старенькое Евангелие, сохранившееся у меня с детских лет, и прочел: «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку домашние его». Эти слова поразили меня. Мне показалось, что они направлены прямо против Анеты и Лизочки. И хотя я знал их глубокую правдивость вообще, в применении к данному они показались мне чрезмерно суровыми. «Чем же Лизочка‑то виновата», — думал я, глядя, как она, подросшая и слегка офранцуженная, — скачет в Люксембургском саду, ловит diabolo [140], играет в мяч. «Вся тяжесть лежит на нас с Анетой, а она просто милое дитя, птичка». И я брал ее под мышки, щекотал, подымал вверх, на забаву ее французским друзьям. Потом мы ходили к фонтану кормить рыбок. Рыбки, такие же маленькие, как она сама, сбивались к нам кучей, а она бросала им корочки, бормотала: «Tiens, les poissons qui mangent» [141].