Избранная проза
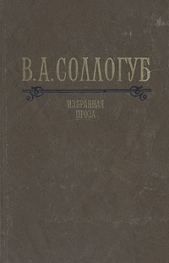
Избранная проза читать книгу онлайн
40-е годы XIX века — период наибольшей популярности Владимира Соллогуба. В эти годы он создает свои лучшие повести «Большой свет», «Тарантас», «Метель». В них Соллогуб предстает внимательным исследователем различных слоев русского общества, и прежде всего столичного высшего света.
Эти и другие повести вошли в «Избранную прозу».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Статская советница отвернулась и плюнула с негодованием.
— Про аптекаршу, что ли, матушка?..
— Про кого же другого? Ведь есть же этакие мерзавки!
— Поистине, грех великий.
— Что-о-о?..
— Грех, матушка, великий.
— Я не велю ее на двор к себе пускать. А ведь он, матушка, говорят, богатый человек… Много дарит, верно. Не слыхала ли?
— Нет, не слыхала-с.
— Экая ты бестолковая. Никогда ничего не узнаешь.
Говорят, собой хорош. Ты его видела?
— Видела.
— Брюнет или блондин?
— Не разглядела хорошенько.
— Что ж ты, слепая, мать моя? Ничего ты таки не знаешь. Ходишь себе болван болваном. Я его дедушку, должно быть, видала в Москве, когда мы с покойником жили на Никитской. Кажется, мог бы вспомнить, что я не бог знает кто; хоть бы плюнуть пришел сюда, так нет. Очень важная особа! Беспокоиться не угодно… Да и хорошо делает. Он уж верно ничего такого у меня не найдет. Экая мерзость! Пфу!!.
Несколько дней спустя дрожки городничего остановились у аптеки. Франц Иванович, как человек нечестолюбивый, поморщился немного от нежданного визита, однако ж встретил градоначальника с должною почестью.
Городничий, человек доброжелательный, но глупый, принял за дело данный ему совет вмешаться в семейные дела аптекаря.
— Я имею с вами переговорить об экстренном случае, — сказал он важно.
— Чем могу я вам быть полезен? — отвечал аптекарь. — Девичьей кожи у меня нет, а ромашки не осталось.
— Обязанность моя, — продолжал городничий, — не ограничивается только одним полицейским наблюдением. Начальство обязано, как попечительная матерь, вникать в нравственные отношения жителей и указывать на то, чего они должны остерегаться.
— Непременно, — отвечал аптекарь.
— Я очень рад, что вы со мною согласны. Мы с вами люди степенные и можем обсудить дело не горячась — не прайда ли?..
— Точно.
— В старину было иначе. Я скажу хоть про себя:
когда я стоял с полком в Белоруссии — вы знаете, около Динабурга, — я был еще молод, часто влюблялся, могу сказать накутил порядком… Да что за женщины эти польки — загляденье! Панна Дромбиковская, панна Чембулицкая… Наши русские и в подметки им не годятся…
— Да к чему это? — спросил аптекарь.
— Виноват, заговорился. Я хотел только сказать, что я надеюсь, что вы примете как следует то, что я имею вам сообщить.
— О панне Чембулицкой?
— Нет-с, о вашей супруге.
— Об моей жене? — закричал аптекарь таким голосом, что городничий отскочил на два шага.
— Не пугайтесь, это толки, о которых я для пользы вашей хотел вас предупредить.
— Какие толки?..
— Так… ничего… Только многие у нас удивляются…
частым посещениям барона в вашем доме… и делают гнусные сплетни… Вы понимаете?.. Я совсем не этого мнения… Но есть признаки. Надобно быть осторожным…
Аптекарь задрожал всем телом.
— Вы видите это окошко, — сказал он задыхающимся голосом, — скажите всем, которые явятся ко мне с подобными предостережениями, что я их вышвырну вон, как негодную стклянку. Жена моя чиста как голубь… Она выше клеветы, она выше всех низких сплетней, которыми живет ваш глупый город, господин городничий. Если кто-нибудь коснется хоть словом, хоть намеком до ее репутации, то вы видите эти руки… я руками разорву его как собаку, пока у меня будет хоть капля крови! Жену мою оскорбить! — кричал аптекарь. — Жену мою! Да это задеть мое сердце раскаленными щипцами. Да знаете ли, что в сравнении с ней весь ваш город… не стоит прошлогодней пилюли. Да я истерзаю, истолку в мелкий порошок всякое животное, которое дотронется только до нее!
В эту минуту аптекарь вырос на два аршина. Городничий пожал плечами и потихоньку выбрался на крыльцо.
Аптекарша стояла за дверью и все слышала. Когда она отворила дверь, муж ее спокойно уже сидел за конторкой, писал свои счеты и потряхивал рыжей головой.
— Что это ты шумел с городничим? — робко спросила Шарлотта.
— Да что, все пристает, чтоб я тротуары чинил на свой счет, а из каких доходов?..
Аптекаршу тронула бескорыстная привязанность ее мужа. Совесть начала ее мучить.
«О! — подумала она. — Отчего мой муж не дурной человек, я была бы спокойнее. Странная моя участь!..
Бедное мое сердце! Я не могу любить человека, который посвятил мне всю жизнь свою, а готова погибнуть для того, который был бедствием моей молодости! Но по крайней мере я не изменю своей обязанности; я останусь верна велениям закона».
Три недели прошли в мучительном упоении. Увлеченная обманчивым рассуждением, аптекарша предалась вполне преступному чувству. С утра смотрела она у окошка, не идет ли вожделенный, и когда он показывался вдали, глаза ее радостно сверкали, и когда шаги его отзывались на крыльце, сердце ее билось, страстный румянец пылал на щеках ее; она была счастлива:
и бедный городок, и бедная аптека казались ей раем земным.
А он? Кто вникнет прозорливо вовсе изгибы человеческого сердца с высокими природными началами, но испорченного от прикосновения света? Он тоже увлекался тайною прелестью восторженного сочувствия. Желая быть Фоблазом, он едва не сделался Вертером. Он был влюблен истинно, влюблен как студент, а хотел рассуждать о любви как лев новой школы. Он стыдился иногда искренности своих чувств и всячески старался возвысить себя до окаменения модного изверга. И любовь — эта чистая капля небесной росы — невольно освежала его коварные замыслы, и обольщенный обольститель, ежечасно прерываемый в своих безнравственных предприятиях, должен был поникать головою, играть в четыре руки и слушать наивные рассказы о прежних подругах, о школьных невинных шалостях, о скромном ручейке девичьей жизни, тогда как воображение его возмущалось кипящим ключом. Тщетно старался он возобновить сцену памятного обеда: аптекарша истощала все женские хитрости, чтоб отклонить признания и страстные речи; и когда он сердился и душевно проклинал свою светскую оплошность, она так очаровательно умела ему улыбаться, она так выразительно глядела на него, что чело его снова прояснялось и надежда вкрадывалась в грудь. Иногда бедный барон нападал на самые разочарующие мелочи жизни; иногда аптекарша выходила к нему с озабоченным видом и засученными рукавами: это значило, что в этот день у нее стирали белье; иногда платье ее уж чересчур оскорбляло моду; иногда она прерывала намеки о вечной страсти и поспешно уходила в кухню взглянуть на жареную баранину, составляющую, как известно, важный предмет губернского продовольствия, — в эти минуты барон бесился на себя, на страсть свою и приказывал Якову укладываться. Потом, думал он, что неучтиво же уехать не простясь, и он опять отправлялся в аптеку. Шарлотта сидела задумчиво у окна. В глазах ее отражалось небо глубокого чувства. Она ему улыбалась… Голос ее, звучный, мягкий, отдавался в его сердце, и он снова забывал ьсвою досаду, планы искусного обольщения и сидел и засиживался по-старому, не наглядевшись и не наслушавшись досыта.
Однажды франт в венгерке посетил барона, как тот только вставал с постели и распечатывал письмо, принесенное с почты.
— Извините, я вам, кажется, мешаю.
— Ничего-с.
— Ну, если позволите… Прикажите подать трубочку.
— Яков! Подай трубку.
Яков сердито всунул трубку франту и хлопнул дверью.
Барон прочитал письмо и улыбнулся.
— Из Петербурга изволили получить?
— Да.
— От родственников?
— Нет, от знакомой дамы.
— А! Верно, по-французски?
— Нет, по-русски.
— Ах! Это любопытно; желательно бы знать, как петербургские дамы пишут. Секретов нет-с?
— Никаких.
— Ах! Так позвольте взглянуть.
— Да на что вам?
— Из любопытства-с.
— Читайте, пожалуй.
Франт с жадностью схватил письмо и осмотрел его со всех сторон.
— Как пахнет! — сказал он. — Что за прелесть! Сейчас видно, что из столицы. А в углу это что?
— Герб графини.
— Ах, проказники какие! Чего не выдумают! Бумага с серебром; это графская корона?

























