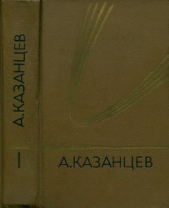Том 7. Произведения 1917-1929
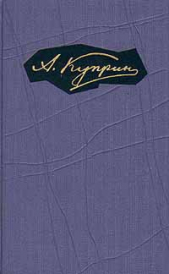
Том 7. Произведения 1917-1929 читать книгу онлайн
В седьмой том вошли произведения 1917–1929 гг.: «Скворцы», «Храбрые беглецы», «Козлиная жизнь», «Звезда Соломона», «Сашка и Яшка», «Пегие лошади», «Гусеница», "Последние рыцари", "Царский писарь", "Песик - Черный носик", "Одноруцкий комендант", «Сказка», «Судьба», «Золотой петух», "Дочь великого Барнума", "Ю-ю", "Пуделиный язык", "Синяя звезда", "Звериный урок", «Инна», "Тень Наполеона", "Рассказы в каплях", "Скрипка Паганини", "Геро,Леандр и пастух", «Завирайка», «Ольга Сур», "Четверо нищих", "Домик", "Дурной каламбур", «Соловей», «Бальт», «Рахиль», "Типографская краска".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Через много лет молодой Дюмон пробовал читать его замечательные книги: они оказались тяжелыми и скучными даже для специалистов.
Профессор привез с собой из Европы веские рекомендательные письма, и Дюмон-старший охотно предложил ему в своем доме самое широкое гостеприимство на все те десять или двенадцать дней, которые тот рассчитывал пробыть в г. Сантосе. За это время знаменитый ученый и юный пускатель змеев, к удивлению всех окружающих, сошлись в самой тесной и крепкой дружбе. С утра до вечера они были неразлучны, бродили вместе по городу и его окрестностям, купались, ловили рыбу, мастерили новый, чудовищной величины змей, катались на парусной лодке. В характере профессора сохранилось странным образом много детской живости, а Дюмон-младший являлся для него самым внимательным в мире слушателем. Беседы их нередко бывали очень серьезны, хотя и облекались в острозанимательные формы. Большей частью они начинались с какого-нибудь необыкновенного предмета, из тех, которыми всегда были полны, карманы профессора. Так, например, однажды он извлек из своего бумажника какой-то плоский, неправильной формы кусочек не то камня, не то изделия из папье-маше вершка в три длиною, с одной стороны серо-желтый, а с другой — разрисованный в виде ровных полос и ромбов яркими и густыми красками — зеленой и красной. Протягивая эту вещицу мальчику, он спросил:
— Определите, мой молодой друг, что это такое?
— Это? — спросил Дюмон, вертя в руках странный предмет. — Я думаю… камень? Штукатурка? Раскрашенная известка?
— А происхождение?
— Н-не знаю… Это что-то, мне кажется, не южноамериканское и даже, пожалуй, не европейское. Как чудесно раскрашено! Что же это?
— Это, мой молодой друг, не что иное, как пропитанный цементом толстый слой полотна. А раскрашен он был три с половиной тысячи лет тому назад, чтобы служить облицовкой стен для гробницы одного из египетских фараонов… Имя его… За именем фараона последовало описание его личности, его двора и царствования, а затем в волшебном рассказе развернулась, как достоверная история вчерашнего дня, величественная и мудрая жизнь Древнего Египта, с его войнами, религией, домашним бытом, наукою и искусствами. Точно так же профессор доставал из своих бездонных карманов какую-нибудь глиняную древнюю буро-зеленую безделушку — ручку от вазы, обломок серьги, кусочек браслета, и всегда он заставлял ее быть живой и красноречивой рассказчицей о старых-престарых временах, лицах и событиях. Для мальчика эти незабвенные часы и эти вдохновенные беседы остались навсегда самым серьезным и самым пышным воспоминанием детства.
Но дни бежали страшно быстро. Наступил последний вечер, завтра ранним утром профессору надлежало ехать на пароходе в Монтевидео. Друзья — старый и юный — сидели в чисто выбеленной комнатке младшего Дюмона; одна ее стена была красна от света пылавшей зари, другая — голубела в тени; из открытого окна лился сладкий аромат апельсинных деревьев, которые заполняли весь сад бронзовым золотом своих плодов и нежною белизною цветов, так как эти деревья цветут и плодоносят одновременно. Оба друга были молчаливы и немного грустны, немного разочарованы. Им не удался сегодня один весьма интересный для обоих план. Профессор обещал упросить родителей мальчика, чтобы они отпустили его в путешествие на Паранагву и Корепшбу, но мадам Дюмон и слышать об этом не захотела. Она в испуге замахала руками: желтая лихорадка, дикие быки и ягуары в пампасах, ночлеги на голой земле, бродячие разбойничьи племена… нет, нет, господин профессор, это вы затеяли не подумавши…
Глаза профессора, никогда не оставлявшие наблюдения, медленно блуждали по темному потолку, по голубым и розовым стенам, потом опустились к полу. Вдруг он воскликнул с удивлением:
— Какой странный у вас ковер. Давно ли он у вас и откуда?
— Право, я не знаю, — ответил равнодушно мальчик. — Кажется, он еще от дедушки моего папы. Его давно хотели выбросить, но он мне почему-то нравится, и я попросил оставить его у меня. Он ужасно старый. Посмотрите, в некоторых местах протерся насквозь.
— Но обратите внимание, — возразил восторженно профессор, — он, правда, износился до дыр, однако совсем не утратил первоначальной прелести красок. Они только смягчились от времени и стали оттого еще благороднее. Позвольте-ка поглядеть мне его поближе к свету.
Ковер был небольшой, аршина в два с половиной в длину и два в ширину. Мальчик легко поднял его с полу и, перевесив один конец на подоконник, спустил другой через спинку бамбукового стула. Профессор сверх очков водрузил на нос золотое пенсне.
— Расположение цветов, окраска и орнамент несомненно индийского стиля, — говорил он, низко склоняясь над ковром. — Это замечательно старый и несомненно редчайший по красоте экземпляр. Я бы сказал, что он кашемирского происхождения. Персидский узор мельче, однообразнее и не так смел. Ага! Здесь еще имеется что-то вроде марки или нет… Это скорее именной знак… а может быть… Подождите-ка… Какая-то парящая птица, не то орел, не то коршун. Под ним черта с завитушкой… Посох? Жезл? Скипетр?.. Еще ниже буквы… Представьте себе, арабские буквы.
— Неужели арабские? — спросил, оживляясь, мальчик.
— Несомненно арабские… Странно… На кашемирском ковре не может быть этой арабской вязи. На персидском — да. Неужели я ошибся? Очень жаль, что здесь, на самом интересном месте, дыра. Я могу прочитать ясно только одно слово. Оно произносится по-арабски — тар или тара, что в переводе значит — лечу, лететь… Изумительный ковер… поразительный!.. Я совсем не удивился бы, если бы мне сказали, что ему лет триста… нет, даже четыреста, даже пятьсот… Восхитительная вещь!
На это мальчик сказал с легким поклоном:
— Если он вам действительно нравится, то позвольте его считать вашим. Вы мне этим сделаете большое удовольствие. Я сейчас прикажу завернуть его, и затем как вам угодно? Возьмете ли вы его с собой, или я пошлю его вам домой в Европу.
— Нет, нет, этого совсем не нужно, — вскричал профессор. И затем, выпрямившись и сняв пенсне, он залился громким визгливым смехом. — Очень, очень благодарен, но вы с этой редкостью никогда не расставайтесь. Черт возьми! А что, если это тот самый волшебный, летающий ковер из «Тысячи и одной ночи», на котором когда-то прогуливался принц Гуссейн, а рядом с ним сидели принц Али со своей чудесной подзорной трубкой и принц Ахмед с целебным яблоком? Берегите это сокровище! Подумайте — ковер-самолет! Тара! Лечу!
— Ну вот… сказки… вы шутите, — протянул мальчик, немного задетый тем, что ему напомнили о его детском возрасте.
Профессор сразу сделался серьезным.
— Не пренебрегайте сказкой, мой молодой друг, не отворачивайтесь от нее, — сказал он торжественно. — Ведь вы и сами переживаете теперь упоительнейшую из сказок. Даже не сказку, а, пожалуй, только конец ее. А настоящая сказка была лет пять тому назад, в вашем золотом детстве, где все вокруг вас было сияющим чудом, игрой драгоценных камней на солнце, пением небесных птиц и райским благоуханием. Тогда с вами говорили звери и ангелы и вашего голоса слушались горы, воды и небо… — Он шумно вздохнул. — А все-таки мне непонятно, как это попали арабские буквы на индийский ковер?
Или арабский джинн, заказывая его кашемирскому художнику, сам нарисовал пальцем на песке магические знаки: птицу, жезл и волшебное слово?..
Профессор уехал к диким южным племенам, и мальчик точно осиротел. Но, к счастью, в этом возрасте огорчения если и не менее остры, чем у взрослых, зато они гораздо короче: иначе бы ни у одного человека не было самого дорогого в жизни — детства. Прошло время, уменьшилась горечь разлуки, а там и самый образ толстого, тонкоголосого ученого стал бледнеть и уходить вдаль, и с каждым днем угасал блеск его сияющей лысины, пока не померк окончательно. Зато старый ковер сделался любимой вещью мальчика. Он как будто бы приобрел в его глазах новую, глубокую, таинственную красоту с тех пор, как ученый коснулся его своими всезнающими пальцами. И часто по вечерам сидел на нем маленький Дюмон с поджатыми под себя по-турецки ногами и глядел на закатное небо, на голубизне которого раскачивались апельсинные деревья с их жесткими, темными, блестящими листьями, пронизанными шарами плодов и осыпанными белым кружевом цветов.