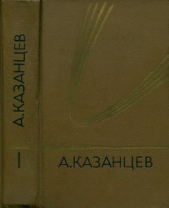Том 7. Произведения 1917-1929
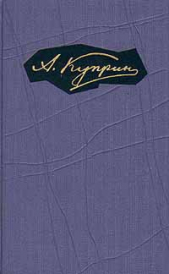
Том 7. Произведения 1917-1929 читать книгу онлайн
В седьмой том вошли произведения 1917–1929 гг.: «Скворцы», «Храбрые беглецы», «Козлиная жизнь», «Звезда Соломона», «Сашка и Яшка», «Пегие лошади», «Гусеница», "Последние рыцари", "Царский писарь", "Песик - Черный носик", "Одноруцкий комендант", «Сказка», «Судьба», «Золотой петух», "Дочь великого Барнума", "Ю-ю", "Пуделиный язык", "Синяя звезда", "Звериный урок", «Инна», "Тень Наполеона", "Рассказы в каплях", "Скрипка Паганини", "Геро,Леандр и пастух", «Завирайка», «Ольга Сур», "Четверо нищих", "Домик", "Дурной каламбур", «Соловей», «Бальт», «Рахиль», "Типографская краска".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сколько я из-за этого рондо жестокой учебы принял, так и вспомнить страшно. Сидишь, бывало, за столом вместе с товарищами и копируешь с прописи: Ангел, Бог, Век, Господь, Дитя, Елей, Жизнь… — а учитель ходит кругом и посматривает из-за плеч. Ну, бывало, не остережешься, поставишь чиновника, сиречь кляксу, или у «ща» хвостик завинтишь на манер поросячьего, а он сзади сграбастает тебя за волосы на макушке и учнет в бумагу носом тыкать: «Вот тебе рондо, вот тебе клякса, вот тебе вавилоны». Всю бумагу, бывало, собственными красными чернилами зальешь.
Зато и учитель у меня был. Орел! Всегда важнейшие бумаги на высочайшее писал. Сидоров, — может быть, слыхали? Нет? Мудреного мало. Времена давнишние. А был он человек замечательный, этот Тихон Андреич Сидоров, царство ему небесное. В некотором отношении даже историческая личность. Государь Николай Павлович, по своей сверхчеловеческой природе, был ужас какой обонятельный, то есть, я хочу сказать, до чрезвычайности чувствительный ко всяким запахам. Однажды, принимая доклады, взял он из рук министра какую-то бумагу, чтобы ее лично поближе рассмотреть, и поморщился. Спрашивает министра: «Что это ты, неужели табак нюхать начал?» У того коленки друг о дружку застучали. «Подобным делом никогда не занимался, ваше императорское величество, должно быть, писарь как-нибудь не уберегся». — «Какой такой писарь?» — «Сидоров, ваше императорское величество». — «Внушить Сидорову, чтобы вперед был осмотрительнее. А почерк у него, канальи, хорош, даром что нюхальщик».
В тот же день Сидорову внушили. Сами можете вообразить, каково было внушение: две недели человек не мог ни на табурет сесть, ни на спину лечь. Если бы не милостивое царское слово напоследок о почерке, то, может, и в живых бы Тихон Андреич не остался… Но все равно и так погиб… Запил мой учитель с этого часа, подобно змию… До лютости. С утра до вечера ходил, как дым, пьяный. Но почерка, заметьте, не утратил, даже как бы окреп в нем и ожесточился. И вот через полгода — новое чудо. В одно утро был опять наш министр с высочайшим докладом, и, должно быть, на этот раз император изволил проснуться в легком и светлом расположении духа. Был милостив и даже слегка шутлив. Попался ему на глаза какой-то доклад. Он указал перстом и говорит: «Какой отличный почерк. А ведь я, говорит, даже узнал, кем писан. Это писал мой знакомый писарь Сидоров, тот, что нюхает табак. Ну, что, угадал?» Всем известно, что Николай Павлович памятью отличался почти божеской. Но если бы даже и не отгадал… так разве цари могут ошибаться? Министр, конечно, подтвердил, но сердце у него было как ледяная сосулька. «Вдруг, думает, бумага опять табаком провоняла? Ну, думает, подожди ты у меня, расщучий сын Сидоров, угощу я тебя такой понюшкой, что твои правнуки чихать будут. По зеленой улице проведут!» А зеленая улица — это значило — сквозь строй. До смерти забивали. Однако вышло совсем наоборот. Николай Павлович улыбнулся благосклонно и промолвил: «Награждаю моего писаря…» Так и сказать изволил: моего писаря.«Награждаю, говорит, моего писаря Сидорова серебряной табакеркой с изображением государственного герба и с надписью: «Моему писарю». Тут пошла уже другая музыка. Все начальство, как есть, кинулось лично поздравлять Тихона Андреича, от самой мелкой сошки до директора департамента, и министр ему собственноручно табакерку царскую преподнес.
Однако недолго Сидоров на государев дар порадовался. Первое — не мог он от своего виновкушения отрешиться, а второе — сошел с ума на гордости. Требовал себе от всех рабского почтения и страшно разоврался. Под конец начал такую околесину плести, что будто и лично он с государем виделся много раз, и будто государь с ним о важных делах Российской империи советовался, и будто чай он во дворце, в царской семье, пил с ромом и с тминными крендельками. И кончил он жизнь у «Всех скорбящих».
Оно и не удивительно было маленькому существу от такой царской милости в уме помешаться. Ведь какого масштаба император был! Единым взором мог человека в соляной столб обратить, на манер жены Лота. Я вот как-то с одним старым генералом разговорился: был у него по нашему, по писарскому делу. Не из нынешних паркетных щелкунов, а старого закала генерал, боевой. Он мне и рассказал следующее. Произвели их из кадетского корпуса в первый офицерский чин, и поехал он в теткиной одноконной карете делать визиты. Известно, что вновь испеченному прапорщику море по колено, и в первые три дня веселятся они напропалую. Ну, а этот возьми да в своей карете и закури сигару — так, больше из модного шику, да еще из молодого озорства, потому что курить тогда на улице всем и каждому строжайше воспрещалось. И вот как раз около кондитерской Доминика навстречу ему Николай Павлович на паре серых. Мчится, как молния! Прямой, точно памятник! От ветра орлиные перья на каске раздуваются, пелерина по воздуху трепещет! И вдруг сквозь каретное стекло увидел прапорщика с сигарой. Только взглянул и пальцем ему погрозил.
Так генерал говорил мне: «Я, говорит, этого взгляда по самый гроб не забуду. Все я в жизни перенес: сражения, восстания, опасности, раны, смерть близких людей, но подобного ужаса ни разу не испытывал. Проснусь, говорит, иногда ночью, вспомню взор этих грозных глаз и от испуга головой под одеяло. И умирать буду — не о смерти подумаю, а об этом страшном взгляде».
Да-с. Вот внучка у меня есть — Глашенька, Глафира Денисовна, служит она в библиотеке. Так что она мне говорит, если бы вы, молодой человек, послушали! «Твой Николай был палач, говорит, коронованный убийца, душитель слова и мысли, жандарм Европы!» И пойдет, и пойдет. «Всю Россию, кричит, исполосовал розгами и залил кровью, на три века остановил страну в развитии, унизил и оподлил ее хуже всякого рабства!» Что мне ей отвечать на все эти слова? Я молчу. Умом знаю, что Глашенька права, но вот тут, в груди, в душе-то, не могу, не смею его осуждать. Как родился его рабом, так рабом и подохну. Я думаю, когда у собаки помрет строгий хозяин, то она, наверно, с умилением вспоминает, как он лупил ее плеткой, и плачет в своем собачьем сердце.
Кузьма Ефимыч углубляется в тень и молчит некоторое время. Потом, откашлявшись, он прихлебывает из кружки и продолжает гораздо спокойнее: — Ну вот, значит, объявили освободительный манифест. Сократили и прежний срок военной службы. Вышел я в чистую отставку и очень скоро порастерял своих прежних товарищей: кто из них умер, кто возвратился на родину, а прочие исчезли где-то в безвестности.
Нас, царских писарей, осталось очень мало, все наперечет, и с каждым годом число наше убывало. Нельзя, конечно, сказать, чтобы не нарождалось новых людей с хорошими почерками. Но одно дело — каллиграфия, а другое — военно-писарское рондо. У молодого поколения не было той железной выучки, как у нас, не было нашего терпения, нашего опыта, нашей смелости руки, нашей чистой работы, уверенности и глазомера. Мы были сидоровской выучки, так сказать, высокой старинной марки, редкого заводского тавра. Это в департаментах знали и чувствовали. Хотя с освобождением и рухнули многие великие столпы и закатились многие яркие звезды, но нас, царских писарей, этот переворот не коснулся. А так как все мы стали вольнонаемными, то, стало быть, и пришел на нашу улицу праздник.
В канцеляриях мы были, если говорить по-нынешнему, гастролерами, вроде, например, как знаменитый ваш Шаляпин. И понимали о себе ничуть не меньше, чем он. Придешь, бывало, в министерство оборванным, в опорках, чуть-чуть хмельной, но на всю эту чиновничью мелюзгу как с высокой колокольни смотришь. Что мне в его кокарде? Их, титулярных советников и коллежских регистраторов, может быть, сто тысяч в одном Петербурге, а нас, царских писарей, во всей России шести десятков не наберется. И жалованье он получает шестнадцать целковых в месяц с копейками, а я шутя сто и полтораста выбью. И он прикован, как пес на цепи, к своему столу, а я — свободный художник, и мое имя люди высокого звания произносят с одобрением: «Пьет, прохвост, но единственный мастер писать на высочайшее».