Том 10. Петербургский буерак
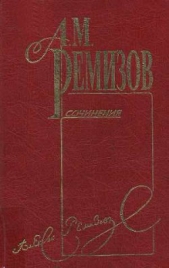
Том 10. Петербургский буерак читать книгу онлайн
В десятый том Собрания сочинений А. М. Ремизова вошли последние крупные произведения эмигрантского периода творчества писателя – «Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак». В них представлена яркая и во многом универсальная картина художественной жизни периода Серебряного века и первой волны русской эмиграции. Писатель вспоминает о В. Розанове, С. Дягилеве, В. Мейерхольде, К. Сомове, В. Коммиссаржевской, Н. Евреинове, А. Аверченко, И. Шмелеве, И. Анненском и др. «Мышкина дудочка» впервые печатается в России. «Петербургский буерак» в авторской редакции впервые публикуется по архивным источникам.
В файле отсутствует текст 41-й страницы книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Днем я зашел проведать моих старых знакомых: да в «Весах» никого, в «Золотом Руне» пусто, я к Сиу – что Дюбудом и Бурдон трудятся над моими «водыльниками», мне писал в Петербург Шюзевиль, и я представляю себе, как оба добрались до высоченной вавилонской высоты и перестают понимать – про меня уже речи нет – а друг друга. У Сиу, мне сказали, что Бурдон на службу не явился, жаль, и я к Трамбле. За шоколадом Дюбудом мне рассказал все происшествие с Аннушкой и что он это предвидел – «отношения были натянуты».
«А как у вас подвигается?» – спросил я.
Дюбудом сконфуженно:
«Моя сожглась!»
«Что вы говорите!»
«В печке, – поправился переводчик, – рукопись: “Кондюктер”».
Я понял, что мой «Водыльник».
Вечером я сидел в пивной Горшкова на Земляном валу – места мне знакомые с первых воспоминаний.
Разговор шел о утопленниках. Высокий мост под пивной Горшкова – пивная на углу Таганской площади, от нее спуск к Яузе. Алексей Иванович был свидетелем, как вытаскивали на берег к Вогау «утоплое тело».
«Тело обследовали со всех концов, – рассказывал Горшков, – но чье тело, не скажешь: мужчина или женщина».
«Что же это такое – отозвался певчий от Рождества, Путилов, философ, – непроизвольное это зарождение, или течением реки – отнесло?»
«Деформация», – сказал кто-то из угла.
«Но зря пишут, “по-видимому из крестьян”! – Горшков кивнул в мою сторону, – а может, действительно, течением реки».
«Аномалия», – отшвырнул пренебрежительно угловой голос, должно быть, фельдшер с Хохловки. Он же сообщил, что главный доктор из Воспитательного Дома, Языков, обследовал и склоняется к аномалии, тело отправили в Анатомический театр. Повез доктор Васильев.
А я подумал:
«Несчастная Аннушка!» Но я ничего не сказал про аномалию, и что знаю, чье тело, и что все из-за меня.
Околоточный Гаврилов, как будет переходить через Краснохолмский мост, заметил, плывет что-то невообразимое. «Какая похабщина в глазах мерещится!» подумал и отвел глаза.
Утро было необыкновенное, такой мир в небесах и на земле, только в Москве и бывает такое, в Петербурге не могло быть, где-то у праздника перезванивали к водосвятию, а летний воздух не жег, а гладил теплыми искорками нашептывая, пел и петь хотелось.
Гаврилов заглянул проверить, не померещилось ли? а оно плывет. Что за чудеса? Сошел с моста на берег, поманил Тюхина. Тюхин соскочил. «Смотри!» Гаврилов показал пальцем. А у того и без пальца глаза на лоб, видит, плывет и трудно обознаться, оно – и дурак же, вздумал окликнуть: «чей?», а оно плывет, никакого внимания: ему все равно, городовой или околоточный, не таковский. Тюхин высматривал лодку: с лодки очень легко сграбастать. Но тут набежали Краснохолмские мальчишки: что рак, что лягушка «пымать» ничего не стоит. И выловили. Оно самое, но чей, не написано. «Отпадший», – сказал Гаврилов. Тюхин за свисток. И на перепуганном извозчике – не успел ускользнуть! – в участок. Москва громче Флоренции, а подкидывает, как дорога из Вятки на Пермь, в собственных руках, из опаски выскользнет, вез его Гаврилов. И вдруг вспомнил вчерашнее «утоплое тело» у Высокого моста и как все удивлялись и доктор Васильев сказал: «в первый раз вижу». Из участка тот же Гаврилов перевезет «его» на Девичье поле в Анатомический театр, – там разберутся.
Был я в Сандуновских банях, не по душе. И всякий раз, как попадаю в Москву, хожу в наши «Полуярославские», дворянское отделение 5 копеек, цена не меняется. Мыться всякому нужно с уверенностью. Липовые шайки, березовый веник и медный таз.
К вечеру любопытней, стечение народу, и таганские и рогожские, и со всеми за ручку. Так я собрался не откладывая, петербургскую копоть смыть москворецкой.
В пару и под паром в бане только и разговору, что о утопленнике. Историю с Гавриловым я услышал от банщика Якова.
«Я так и думал, отъято течением», – перебил Якова распаренный голос с полки: певчий Путилов от Рождества.
«А на Анатомическом театре, – скороговоркой продолжал Яков, – как сдал Гаврилов в конторе, сбежались сестры, подхватили себе на руки и приставили к “утоплому телу”, как раз по мерке».
«Браво!» – торжествуя, одобрил певчий, и от избытка парного воздуха и расположения не горлом, из души голос пел. Все мы заслушались, и один только капал, но не врозь, без остуды, горячий кран.
В тенорах, особенно русских, много сердца и боли, но есть и распутство, а вот баритон – какое мужество и мудрость, первородная скорбь.
У всех нас весеннее неповторяемое, а помнится до смерти: великая пятница с выносом плащаницы, погребение с каноном «Плач Богородицы» и полунощница перед пасхальным колоколом – вечер со страстной свечой, и ночь с неугасимою, пасхальной, туманная воскресная заря. Как хорошо жить на свете!
После бани пил чай и ни о чем не думал. Высплюсь и с завтрашнего дня в поход: кого-нибудь да застану, не все ж по дачам. В Москву я приезжал с пустым карманом, рассчитывая на аванс.
Из моего недуманья и китайского запала вывел меня Бурдон. Мне стало очень неловко, я чувствовал себя виноватым, я только не знал, на чем разыгралась трагедия с Аннушкой, на «Нежити» или на «Ховале». Но странно, особого потрясения я не заметил: все та же наглая бабочка торчала из подбородка. Он был у Омона, 6 французская труппа, и прямо от Омона – узнал от Дюбудома – сюда.
«А тело утопшей Аннушки?» – вырвалось у меня.
«Ничего подобного, – сказал Бурдон, – это вам наговорил Гастон, вздор! Аннушка сбежала к повару Ельяшевича».
А от «Ховалы» он отказался – не под силу. Два месяца работы над страницей.
«А Рябушинский?» – я представил себе его негодование.
«Мосье Вальдор, – сказал Вурдон, – в Москву не вернется».
«Ховала», «Нежить» и «Водыльник» появились в «Золотом Руне» без французского перевода. Впрочем, никто и не спохватился – читателей у меня по пальцам перечесть, им русского довольно
Моя вавилонская история не кончилась. Правда, прошло немало времени, и вдруг, в Париже, как снег на голову, затеяли меня переводить на французский.
Много рассказывать нечего. Все то же: Б. Ф. Шлецер ртуть проглотил, П. Паскаль с отчаяния ушел в монастырь, Шюзевиль – а как я рассчитывал, не покинет; «потому что никогда не женился», как сам он мне признался, а вот и Шюзевиль безвестно в Сиракузах, читает коран и говорит только по-арабски.
Игра вещей *
Кто опаздывает? Прежде всего, люди – самовключенные, которые знают, как их ждешь. Сами они в тебе не нуждаются. Опаздывание вещь невеселая, а в таких случаях и жестокая. Очень уж все откровенно и объяснений никаких не требует: «подождет, не развалится!»
Есть еще случай опаздывания, но без умысла, а от невнимания: чаще всего, это люди, не умеющие думать. «Неумение думать» – это величайший порок человека – «органический».
Опаздывание соединено с чувством досады и для того, кто опаздывает, и для того, кто ждет.
За исключением умысла и недуманья, я вижу три рода опаздывающих.
Одни опаздывают – это люди забывчивые, рассеянные и мечтательные, мало или некрепко связанные с событиями жизни и с вещами.
Другие опаздывают, они совсем не рассеянные и не забывчивые и часто очень трезвые, но у которых странное душевное свойство, это свойство волевое, я называю «азартным упором». Посмотрите: надо спешить на поезд, по часам пора, а он берется за всякие пустяки: подбирает по №-ам старые газеты или возьмется за адресную книжку искать совсем ненужный адрес; он делает все, что можно делать потом, а если не находится ничего постороннего, отводящего, он просто усядется к столу (совсем уже готовый к отъезду) и будет следить за часами, как с каждой минутой остается все меньше времени поспеть. То же самое и с назначенным и условленным часом, когда надо куда-то идти, чтобы встретить или застать дома, на прием ли к доктору, в полицию по вызову, а в юности на экзамены. Если такие азартные все-таки в чем-то успевают, то исключительно и только благодаря другой, в них же самих «жизненной» (деятельной) силе, которая их сдвигает, подымая из упоительного – а в этом есть какое-то наслаждение – упора: «надо, а я еще посмотрю».






















