Том 3. Слаще яда
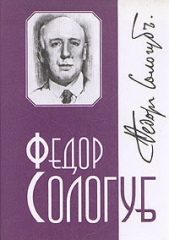
Том 3. Слаще яда читать книгу онлайн
В томе представлены малоизвестные произведения Ф. Сологуба: впервые издающиеся в наши дни роман о радостях и скорбях любви «Слаще яда» (1912) и продолжающие интимно-лирическую тему рассказы двух циклов: «Книга превращений» (1906–1908) и «Книга стремлений» (1901–1911). Настоящий том из числа тех, что открывает забытые страницы наследия выдающегося мастера русской словесности, подтверждая суждение о нем Александра Блока: «В современной литературе я не знаю ничего более цельного, чем творчество Сологуба»
К сожалению, в файле отсутствует заглавный роман «Слаще яда».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Женщины сидели так, что каждой из трех видна была за раскрытыми занавесками террасы и за кустами неширокой и недлинной аллеи садовая калитка и за нею часть дороги, — и видели они всякого прохожего и проезжего.
Но в этот час дня почти никто не проходил и не проезжал мимо старого дома.
За столом служа, Глаша надевала на круто сложенные косы свежевыглаженный чепчик с подкрахмаленными бантами и с плоеною сквозною оборочкою. Забавно мелькал этот снежно-белый чепчик над свежею загорелостью Глашина лица.
В саду под террасою на скамеечке, на открытом месте сидела старенькая Борина нянька, в темно-лиловой кофточке, черном платье и темно-синем платке. Она грела на жарком солнце старые косточки, прислушивалась к разговору на террасе, ворчала что-то, а то дремала.
Она ширококостая, полная. Лицо у неё круглое, приятное, и даже сквозь мелкую сеть морщин видно, что когда-то было красивое. Глаза еще ясные. Волосы седые, гладко причесанные. На лице и во всей фигуре застывшее выражение унылого добродушия.
Как всегда, ели и пили, и разговаривали весело и дружно. Иногда говорили сразу двое. Если бы послушать из сада, то казалось, что на террасе сидит большое общество.
В разговоре часто слышится Борино имя:
— Как бы не забыть, Боря любит…
— Может быть, Боря привезет…
— Что-то Бори еще не видно…
— Я думаю, Боря приедет с вечерним…
— Надо спросить Борю, читал ли он…
— Может быть, Боря это знает…
А внизу под террасою старая нянька всякий раз, как только услышит Борино имя, крестится и шепчет:
— Упокой, Господи, душу раба твоего Бориса.
Сначала шепчет тихо, потом все громче и громче.
Наконец сидящие за столом на террасе женщины слышат эти слова. Тогда они вздрагивают, и тревожно переглядываются. На их лицах изображается смутный страх. Но они сейчас же опять начинают разговаривать еще громче, и смеются еще веселее. Говорят без перерыва, и за шумом их голосов и смеха не слышат пока нянькина бормотания в зеленеющем весело саду.
Но упадут случайно голоса после того, как названо милое имя, — и опять слышатся тихие, страшные слова:
— Упокой, Господи…
За завтраком сидят долго, больше говорят, чем едят. Тревожно посматривают на калитку. Кажется, что им страшно встать из-за стола и куда-нибудь идти, пока нет еще с ними Бори.
К концу завтрака приходит почта. За нею каждый день ездит на станцию четырнадцатилетний паренек Гриша верхом на гнедой, смирной лошадке. Он бойко скачет мимо калитки, подымает облака серой пыли и отчаянно болтает в воздухе локтями. При этом его пыльные ноги колотятся пятками в бока его кобылки, а на ремне через плечо болтается черная сумка.
Гриша оставляет лошадку на дворе, а сам с кожаною сумкою идет через сад, и чему-то широко ухмыляется. Поднимаясь по ступенькам террасы, он объявляет громко и радостно:
— Почту привез!
Он веселый, загорелый, потный. От него пахнет солнцем, землею, пылью и дегтем. Пясти рук и стопы ног у него крупные, как у взрослого. Губы мягкие и пухлые, как у добродушного жеребенка. Укосого ворота его рубахи не хватает пуговок, видна сквозь ворот полоска загорелой груди да серый кусочек гайтана.
Софья Александровна порывисто поднимается со своего места. Отбирает от Гриши сумку. Быстро опрокидывает её на стол. На белую скатерть сыплется груда бандеролей. Все три женщины склоняются над столом, и ищут писем. Но письма бывают редко.
Наташа хмуро смотрит на ухмыляющегося паренька. Спрашивает:
— Писем нет, Гриша?
Гриша переступает по ступеньке лестницы большими ногами, кирпично-красными от солнца, ухмыляется и отвечает всегда одними и теми же словами:
— Письма еще пишут, барышня.
Софья Александровна говорит нетерпеливо:
— Ну, иди, Гриша.
Гриша уходит. Женщины принимаются читать газеты.
Софья Александровна берет «Речь». Читает ее быстро. Часто говорит то, что остановило в газете её внимание.
Наташа раскрывает «Слово». Читает молча, медленно и внимательно.
Елена Кирилловна берет «Русские Ведомости». Неспешно разрывает бандероль. Раскрывает на столе весь лист. Читает, быстро бегая глазами по строчкам.
Няня, кряхтя, медленно поднимается по ступенькам. Софья Александровна отрывается на минуту от газеты и смотрит на старуху испуганно. Наташа нервно вздрагивает и отвертывается. Елена Кирилловна читает спокойно, не глядя на няньку.
Нянька вздыхает, садится на скамейку у входа, и спрашивает монотонно, — один и тот же вопрос каждый день.
— Казненных-то нынче сколько пропечатано? Повешено-то сколько?
Софья Александровна роняет газету, вскакивает и вся бледная, смотрит на старую. Все её тело дрожит мелкою дрожью. Елена Кирилловна складывает газету, отодвигает ее, и смотрит прямо перед собою остановившимися глазами. Наташа встает, повертывается внезапно побледневшим лицом к старухе, и говорит каким-то не своим, деревянным голосом:
— В Екатеринославе — семь, в Москве — один.
Или другие города и другие цифры, — то, что принесли свежие газетные листы. То, что они приносят нам каждый день.
Нянька поднимается со скамейки, и крестится истово.
Говорит:
— Упокой, Господи, души рабов твоих! И сотвори им вечную память!
Тогда Софья Александровна вскрикивает отчаянно:
— Боря, Боря, Боря мой!
Лицо её так бледно, что кажется, как будто бы ни одной кровинки не осталось под матовою, эластичною кожею. Судорожным движением сжимая руки, она с ужасом смотрит на Елену Кирилловну и на дочь. Елена Кирилловна отводит глаза в сторону, и, глядя на старую няньку, качает укоризненно головою. Голова её трясется, как и у старенькой няньки, а на глазах проступают, как ранние росинки вечером, скупые слезы.
Наташа упрямо смотрит на мать, и говорит побледневшими, трясущимися губами:
— Мама, успокойся.
Вдруг голос её опять становится холодным и деревянным, — и точно кто-то чужой и злой заставляет ее медленно, отчетливо произносить все те же каждый день слова.
— Ведь ты же знаешь, мама, что Борю повесили еще в прошлом году!
Смотрит на мать неподвижным, жутким взором слишком черных глаз, и повторяет:
— Ты же это знаешь, мама!
Глаза у Софьи Александровны широко открыты, сухи, в них ужас, и глубокие пламенники в их слишком черной глубине горят безумно. Она повторяет беззвучно, глядя прямо в Наташины глаза:
— Повесили!
Садится на свое место, смотрит жуткими глазами на белую Афродиту и на алые розы у её ног, и молчит. У неё белое лицо и алые губы, лицо неподвижное, и губы крепко сжатые, в немигающем взоре её черных глаз затаилось безумие.
Перед изваянием вечной красоты, перед благоуханием мгновенно-торжественных роз она каменеет образом вечной скорби неутешной матери.
Елена Кирилловна тихо уходит по боковой узкой лесенке в сад. Садится на дальнюю скамейку. Смотрит на затянутую зеленою ряскою гладь пруда, и плачет.
Наташа поднимается к себе в мезонин. Открывает книгу. Старается читать. Не читается Наташе. Она откладывает книгу, и смотрит в окно, и глаза её мертвеют.
Над старым домом все выше и выше поднимается беспощадно-ясный Дракон. Радостным смеющимся кольцом веселого простора замыкает, как в пламенный круг, омраченную тоскою тишину старого дома. Жесткие мечет лучи, как острые, оперенные стрелы, и дрожит от вечного, неистощимого гнева.
В старом доме тихо и тоскливо. Никого не ждут, никто не приедет. Боря умер. Беспощадное колесо времени не знает поворота назад.
Так ясно, так светло свершается течение дня! Слитный белый свет говорит, что не на что надеяться.
Наташа сидит в своей комнате у открытого окна. Книга лежит на подоконнике. Не хочется читать.
Каждая строка в книге напоминает о нем, о нескончаемых разговорах, о жарких спорах. О том, что было. О том, чего нет.






















