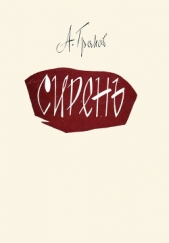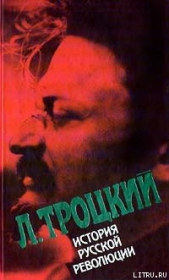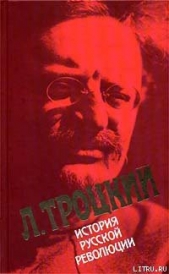Икс
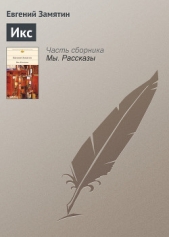
Икс читать книгу онлайн
Евгений Замятин в 20-е годы прошлого века был одним из известнейших литераторов, новатором в прозе, с удивительно широким творческим диапазоном — гротескные сатирические произведения, сказки-притчи, рассказы из жизни русской провинции, фантастический роман. В глухую советскую эпоху Замятин был изгнан из отечественной литературы и вернулся в нее уже в новейшее время
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как в поезде: мимо — столбы телеграфа, черные квадраты окон, крошечные булавочные огоньки, самовар на столе. И вдруг где-то — косой, яркий свет, вырезанные из темноты головы, плечи, носы, толпа. Дальше было некуда, назад — нельзя. Дьякон втиснул себя в кирпичную верею у каких-то ворот, зажмурил глаза, ждал: сейчас придут.
И действительно, кто-то подошел и крикнул над самым ухом у дьякона:
— Выдали!
Кто выдал — все равно: надо бежать. Дьякон рванулся, открыл глаза.
Перед ним был Алешка-телеграфист. Вытянув руки, в пригоршнях, крепко — как птичку, которая сейчас улетит, — он держал кусок черного хлеба.
— Выдали, — крикнул он, — заместо прозодежды! Я — последний получил, больше нету.
Длинно, как корова в сарае, дьякон выдохнул из себя все. И тотчас же понял, что хочется есть, с утра ничего не ел, дома в шкафу стоит каша, надо пойти домой! Но Алешка схватил за рукав:
— Гляди-гляди-гляди! Да гляди же!
В косом свете из окна — на ступенях стоял Сюсин в своей белой, мохнатой куртке и рядом с ним рябой Пузырев — тот самый, какой два года пропадал в немецком плену. Пузырев двумя пальцами, как в огурец вилкой, тыкал в Сюсина:
— Так ты говоришь — хлеба больше нету? А если так, то спрашивается: за что же я, например, пропал без вести? Граждане, бей его!
В белой косой полосе все накренилось. Сюсин упал, на него насели густым, шевелящимся роем, на секунду очень ясно — рука Сюсина с зажатым в ней ключом…
Здесь несколько вычеркнутых строк — или, может быть, дьякон действительно не помнил, как он очутился в своей комнате, инструментованной на «р», как ел холодную кашу. Поевши, хотел прикрыть кастрюлю брошюрой Троцкого, но раздумал: знал, что сюда уж никогда не вернется, потому что финал рассказа должен быть трагический. И, захватив для этого финала железный косырь, каким щепал для самовара лучину, дьякон вышел навстречу неизбежному.
Возле дома через забор свешивалась вниз сирень — сейчас она была черная, железная. Под сиренью на бревнах — тесно сидели двое, белел в темноте чулок и голое колено, звучно целовались. От этого в дьяконе сразу как бы повернулся выключатель и осветил комнату, где (внутри дьякона) с кем-то целовалась Марфа. Все остальное потухло, и дьякон помнил теперь только одно: скорее — туда, к Марфиному дому, чтобы подстеречь его.
Там, на Блинной, одно окошко было освещено, и на белой занавеске шевелилась тень — сейчас подняла к голове руки: должно быть, разделась и венком закладывает косу на голове — как тогда на реке. Дьякона обожгло, будто выпил рюмку чистого спирта. На цыпочках стал подбираться к самому окну, чтобы поднять занавеску, — но позади кто-то чихнул. Дьякон дрогнул, обернулся — и возле Марфиной калитки увидел его. Лица не разобрать — было видно только: поднят воротник и надвинута на глаза франтовская — белой тарелкой — шляпа-канотье.
В кармане — далеко, за сто верст — дьякон трясущимися пальцами нащупал косырь. Потом: нет, пусть о н залезет в сад, пусть! И прошел мимо освещенного окошка, мимо разоренного перелыгинского дома. Тут поглядел назад: шляпа-канотье заворачивала за угол, где в переулочке была садовая калитка. Окошко у Марфы потухло: значит, она ждет…
Дьякон немного помедлил — как, крутясь, всегда медлят взорваться бомбы у Льва Толстого. Вытащил косырь, обтер его зачем-то полой — и, перескочив через забор в сад, сквозь мокрую, хлещущую сирень, бомбой пролетел к скамейке, чтобы одним махом прикончить е г о и этот рассказ.
Мы уже давно обросли мозолями и не слышим, как убивают. Никто не слышал, как вскрикнул дьякон, замахнувшись косырем: все от восемнадцати до пятидесяти были заняты мирным революционным делом — готовили к ужину котлеты из селедок, рагу из селедок, сладкое из селедок. Где-то, с зажатым в руке ключом, лежал белый Сюсин. Из окна пахло сиренью. Товарищ Папалаги допрашивал пятерых, арестованных возле хлебной лавки, и справлялся по телефону, чем кончилось дело на Блинной.
Но на Блинной не кончилось, бомба продолжала крутиться еще бешеней: на скамейке дьякон никого не нашел — и, ободранный, мокрый, полыхающий, выскочил назад, на Блинную. На углу остановился, крутясь, и увидел: в лиловых майских чернилах белела — быстро плыла шляпа-канотье прямо на него.
Мгновенно погасла (в дьяконе) комната, посвященная марфизму, — вспыхнула другая, где был Маркс, Стерлигов и прочие грозные меховые люди. И меховой Стерлигов-Маркс послал канотье, чтобы задержать дьякона, — это теперь осветилось в темноте совершенно ясно. Бежать — куда глаза глядят!
Дьякон несся по Блинной — огромный — и видел свои размахивающие руки. Но это был не он: сам он — крошечный, с булавочную головку, стоял посередине дороги и смотрел, как бежит этот другой. И вдруг кольнуло в живот от страха: заметил, что тот — огромный — дьякон бежит, пятясь миньоном, как тогда милиционеры… ну да: вот теперь пятится как раз мимо закопченных стен перелыгинского дома. Надо было остановиться, понять, что же это такое, — дьякон нырнул в голую, без дверей, дыру в стене и, громко дыша, присел.
Густо пахло — как во всех пустых домах в тот год. Сверху в черный четырехугольник звезды равнодушно глядели вниз, на Россию, как иностранцы. Разом было слышно: частое дыханье, третий звон на кладбище, выстрелы. И конечно, немыслимо, чтобы один человек сразу же слышал все это, и видел звезды, и нюхал вонь. Стало быть, дьякон не один, а…
Плоские, плюхающие шаги за стеной. Медленно, сустав за суставом раздвигая себя, как складной аршин, дьякон приподнялся, выглянул через дыру в стене — и ахнул: этот в канотье — раздвоился и теперь уже двойной, в двух одинаковых канотье, присел на корточки и, зажигая спички, разглядывал дьяконовы следы на влажной земле. Больше терпеть было невозможно: дьякон закричал и, прыгая через какие-то балки, печи, кирпичи, кинулся сквозь перелыгинский дом. Слышно было, как сзади падал и в два голоса материл он — споткнулся — отстал.
Пустыми переулками, набитыми черной ватой, дьякон добежал до кладбища — оно начиналось сразу же за Блинной. Там он забился у ограды, где кладбище спускалось в лог и где оптом закапывали умиравших в тот год. Соленые, едучие капли со лба лезли в глаза, — дьякон утерся и сел на плиту. Вылез красный запыхавшийся месяц, дьякон увидел мраморную дощечку с золотыми буквами: «Доктор И.И. Феноменов. Прием от 10 до 2». Раньше дощечка эта висела на дверях у доктора, а когда доктор переселился на кладбище — дощечку привинтили к плите. Дьякон хорошо понимал: с головой у него что-то неладное, надо бы поговорить с доктором — решил ждать, когда начнется прием у Феноменова.
Но дождаться не пришлось: над оградой кладбища опять показался он, в белом канотье. И он размножался с ужасающей быстротой: он был уже не раздвоенный, а распятерен-ный — в пяти канотье. Дьякон понял, что это — конец, деваться некуда, и заорал: «Сдаюсь! Сдаюсь!»
Когда привели пойманного, Папалаги повернул зеленый абажур так, чтобы осветить его, и спросил:
— Фамилия?
— Индикоплев, — ответил дьякон.
— Ах, Ин-ди-ко-плев! Вот как! Происхождение, родители?
Где-то далеко, за сто верст — дьякон знал: нельзя, чтобы родитель был протопоп. Дьякон прикрыл ладонью голый нос и сквозь ладонь неуверенно сказал:
— Родителей не… не было.
Папалаги — как рога — наставил на него страшные чер-вые усы:
— Довольно дурака валять! Сознавайтесь!
Дьякона прокололо. Значит, уже все известно — тогда все равно.
— Я сознаюсь, — сказал он. — Я перекрестился. Хотя я и отрекся, но перекрестился публично, я сознаюсь.
Папалаги обернулся и кому-то в угол:
— Что он — сумасшедшего разыграть хочет? Ладно, пусть попробует! — Папалаги нажал кнопку.
И тогда вошел он — неясное, желатинное лицо, поднятый воротник, канотье. Дьякон побелел и забормотал, пятясь:
— Он самый… пять шляп — эти самые… Пожалуйста, не надо. Ради Христа… то есть — нет, не ради!
Папалаги поглядел на шляпу, сердито зашевелил усами. Потом показал на пойманного эсера, который притворялся сумасшедшим: