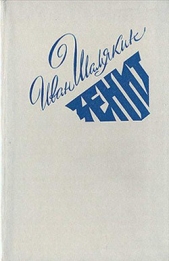Снежные зимы
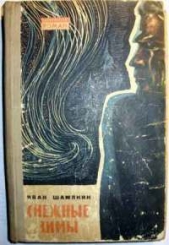
Снежные зимы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Шуганович?
— Просто пришла на память фамилия человека, который погиб. Хорошего человека.
— Лучшего из нас. Но имя его — Василь.
— Иван! Разве я могла забыть! Но я записала ее — Ивановна. В сорок четвертом. Здесь, в сельсовете. Я не могла иначе. Судьба связала меня с Иванами… — Она горько улыбнулась.
Его немножко кольнуло это «судьба связала» — напоминание, что тот. кому они вынесли приговор, тоже был Иван. Об этом никогда раньше не думалось. Зачем ей напоминать?
— Ты испугалась, что я могу проговориться?
— Нет. Но…
— Я не проговорюсь. Не бойся. Ты опоздала на урок.
— Я опоздала. Можно мне не идти? — робко, как школьница, спросила она.
— Нет, иди, — почти сурово, как строгий педагог, сказал он.
— Я пойду.
Опять он в одиночестве слушал тишину и самого себя. Теперь ходики отбивали уже иначе — «так-так, так-так». Но это не было утверждением, это было как бы неуверенное раздумье, ответ на какие-то тайные мысли.
Большие фикусы, плотные гардины заслоняли окна, и в комнате был полумрак; держалось еще ночное тепло, оно создавало уют и как-то расслабляло тело и мозг. Иван Васильевич сел на диван, с которого Надя убрала постель, и тут почувствовал, что здорово устал — не спал ночь, основательно прогулялся от станции. Теперь только увидел, что в комнате — на табуретке, на столе, на проволоке, по которой ходила на кольцах занавеска, даже на фикусе — раскиданы разные девичьи — именно девичьи, не женские — вещи: халатик, косынка, чулки, духи… И дохнуло чем-то детским — тем беспорядком и запахом, который всегда стоял в землянке, где они жили — Надя, маленькая Вита, Рощиха. Пускай моралисты осуждают, но это был уголок обыкновенной человеческой жизни, а не войны, и его тянуло туда после каждого боя, наказания изменников и похорон своих людей. Достаточно было подержать на руках ребенка — и возвращалось душевное равновесие. Может быть, потому так спокойно, уютно показалось теперь в этой комнате, что он почувствовал присутствие этого ребенка.
Он попытался разрушить иллюзию: ребенку уже двадцать три года. Она может так тебя встретить, что и рад не будешь. Нет, настроиться скептически он не может, Но и веселья особенного не чувствует. С болью и грустью подумал о Наде. У нее хватило отваги и решимости за неделю до родов бросить все и уйти в лес… У нее хватило отваги с ребенком оставаться в отряде тогда, когда смыкалось кольцо блокады. Ее могли еще вывести. Теперь же у нее не хватает смелости сказать родной дочери, кем был в действительности ее отец. Изменилась?
«Все мы изменились. Но ты, может быть, меньше, чем кто бы то ни было. Чем я».
«Ты все еще партизан».
«Вряд ли я еще тот, каким был».
«Судьба связала меня с Иванами».
Нет, это не напоминание о нем. Это — боль и признание. Признание, что ты все та же… что пойдешь вместе в любую блокаду… Нет, как и тогда, ты не пойдешь без дочери, только с ней. Ты боишься, ты дрожишь, чтоб кто-нибудь не стал между вами, мертвый или живой… Не бойся. Не станет. Никто! Теперь уже никто!
…Все глубже и глубже вязнут ноги в трясине, зеленой, густой, липучей. На плече пулемет… Какой он сегодня тяжелый! А ребенок на руках легкий. Совсем легонький, как пушинка. Может быть, его нет? Может быть, осталось одно одеяльце? Нет, он слышит его дыханье, ровное, спокойное посапывание носиком. Но не слышит другого — чавканья трясины за спиной — шагов, шагов своих людей. Где они? Почему отстали? А может быть, всех скосили пули? Странно такает пулемет — редкими одиночными выстрелами: «так-так, так-так» совсем непохоже на обычные. Ему надо оглянуться, посмотреть — что там сзади, где люди? Но он не может — от тяжести, из-за боязни провалиться в «волчью яму». Они стынут перед ним черными, блестящими, как деготь, лужами. Он осторожно обходит их, но ноги вязнут все глубже и глубже. Пот заливает лицо, глаза. Хочет крикнуть, но голоса нет, голос где-то там, в сердце, которое распухло, заполнило всю грудь. Однако ему нужно посмотреть назад, непременно нужно! Он пытается обернуться и,, чувствует, что трясина засасывает, тянет за ноги в холодную бездну. По пояс, по грудь… Он поднимает дитя высоко над головой — в небо, к солнцу. Чтоб люди увидели, спасли… Он кричит…
…Очнувшись, Иван Васильевич не сразу понял, где сон, где явь. Было и так. Шли по болоту. Но нес он не дитя — раненую партизанку, уполномоченную ЦК комсомола. Ни разу не провалился. И рядом все время шли люди, много людей, партизан. Самое страшное, оказывается, остаться одному и не иметь возможности оглянуться, чтобы увидеть товарищей. Он и в самом деле вспотел, весь лоб мокрый. Голова откинута к стене, руки подняты — видно, во сне тянул их кверху. Вспомнил, где он, встрепенулся: может быть, усталый, уже долго спит? Шея занемела, руки отекли. Выпрямился — и увидел ее. Девушка стояла у печки, смотрела на него, скептически улыбаясь.
Иван Васильевич понял: Виталия. Но удивился. Если б встретил где-нибудь в городе, наверное, не узнал бы — так она изменилась с тех пор, как видел в последний раз. Шесть лет назад на него с презрением и ненавистью бросала злые взгляды долговязая худая девочка-подросток. Сейчас здесь стояла очень ладная женщина. Да, вся ее стать была такова, что, верно, каждый с первого взгляда назвал бы ее женщиной, а не девушкой. Может, это от строгости одежды: трикотажный костюм стального цвета, так же, как у матери, гладко причесанные волосы, заплетенные и заложенные на затылке узлом.
Но удивило не то, как она выросла, возмужала, а то, как мало дочка похожа на мать. Крупная, дородная — как в шутку говорят «гром-баба», — с более крупными, чем у матери, чертами, но лицо ее, широкое, со здоровым румянцем, красиво, во всяком случае — привлекательно. Выразительные глаза, полные, сочные губы. Именно губы и придавали лицу особую привлекательность и женственность. За короткий миг, пока они разглядывали друг друга, у Антонюка мелькнула еще одна мысль: и на Свояцкого она непохожа.
Виталия сказала иронически:
— Здравствуйте, товарищ «партизанский товарищ».
— Здравствуй, Вита.
Иван Васильевич встал, чтоб пожать девушке руку. Но она не тронулась с места, улыбка пропала, взгляд стал холоден. Он побоялся, что она не подаст руки, а это с первой минуты усложнило бы их отношения.
— У тебя «окно»? — спросил он, вспомнив возвращение Нади, ее страх, предупреждение.
У девушки недобро скривились полные губы.
— У вас есть право говорить мне «ты»? Она все-таки склонна объявить войну.
— У меня есть такое право. Я на тридцать пять лет старше.
— Всего?
— Что всего?
— Всего и права?
— Нет, не только. Я вот тут уснул. И во сне пережил — в который раз! — один эпизод партизанской жизни. Мы прорывались из блокады. Шли через болото… И я нес ребенка. Я нес тебя…
— Часто вы меня носили?
— Из блокады? Нет. Блокировали нас основательно всего два раза. Но в первый раз, осенью сорок второго, мы загодя вывели семейный отряд в безопасное место.
— Семейный?
— Да. Тебя удивляет? Видно, мало ты читала партизанских книг. Отряды, где жили женщины, дети, назывались семейными. Но мать твоя и ты чаще находились при боевом отряде…
Снова недобрая ухмылка скривила ее губы.
— Почему такая привилегия?
Он не ответил на ее язвительный вопрос.
— И мы больше двух лет носили тебя на руках. Ребенок… Ты была радостью, утехой и напоминала о смысле нашей борьбы. Ты, педагог, должна это понимать. Потетешкаешь дитя — и легче идти в бой. Мы были люди, а не автоматы. Мы любили… ненавидели… плакали от умиленья, глядя, как дети играют…
Виталия стояла неподвижно, как окаменелая, пытливо и, казалось, скептически разглядывала гостя. Ивана Васильевича вдруг разозлили и ее ухмылки, и монументальность позы, и то, что он как будто должен оправдываться перед этой девушкой. В чем? Почему? Он сказал твердо и строго: