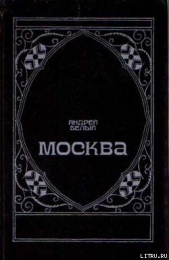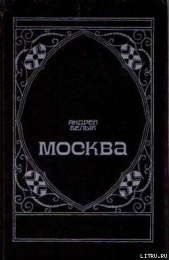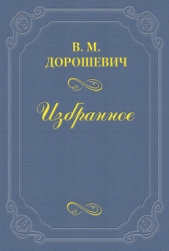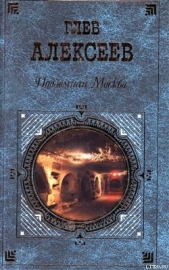Том 3. Московский чудак. Москва под ударом

Том 3. Московский чудак. Москва под ударом читать книгу онлайн
Андрей Белый вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
В третьем томе Собрания сочинений два романа: «Московский чудак» и «Москва под ударом» — из задуманных писателем трех частей единого произведения о Москве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Уж ты извиранья оставь, — размахались жилявые руки, — с алтын обещает тебе Милюков; сам себе на рубли наступает.
А Киерко, высипнув сизый дымочек, — молчал:
— Он — грабазда!
— Чего вы, товарищ, вражбите, — боярился позой своей Псевдоподиев, — с миром?
— Растак! Пустопопову бороду брей!! Вот тебе елесят, а ты — веришь, распопа: а все оттого, что — распойный народ, — дояснил он.
И Киерко выкатил серый зрачок: дюже весело стало; доскоком пустил свой носок; глаз скосил на дымление трубки; другой глаз закрыл; и посиживал: единоглазиком.
— Галиматейное — что-то такое…
Романыча ж дружески — в хвост и в загривок, и давом и пихом: тот, этот:
— Скажи себе: «Надо бы нам единачиться».
— Где у тебя коллектив?
— Дармоглядом живешь!
— Слепендряй!
— Это ж разве за жизнь: это ж стойло кобылье!
— Сплотись!
— А то эдакий с пузом придет, — ракоед, жора, ёма; а ты — пустопопову бороду брей — костогрызом уляжешься, кожа да кости, — усердствовал Клоповиченко.
— Сдерет с тебя кожу бессмертный Кащей: подожди!
— Кожу, — слово ввернул тут кожевенный мастер из малосознательных, — мочат в квасу, а потом зарывают в навоз, чтоб сопрела; потом — сыромятят.
— А ты слыхал звон, да — кто он? — оборвали его. Слесарь слово ввернул:
— Гвоздь не входит, его — подотри ты напилком: так он и взойдет; так и жизнь трудовая; ее подотри, — заскрипит…
— Постепеновец!
— Он — меньшевик. Клеветаль этот, враль этот, ходит к нему…
— Заскрипишь, как раздавят.
— Взбунтуйся: в борьбе обретешь себе право; ступай единачиться с классом рабочим.
И Клоповиченко свою укулачивал руку:
— Сади буржуазию в ухо и в ус: и враскрох, и враздрай!
— Нет, нельзя: не велят, — сомневался Романыч и голову отволосил пятернею, — что палец под палец, что палец на палец.
Отплюнулся.
— Льзя ли, нельзя ли, — пришли да и взяли, — профукнул всем Киерко (он на дворе говорил поговорками).
Так резюмировал дюже и весело он разговор; трубку вынул; докур опрокинул; и вертко в проулок пошел; вслед ему:
— Энтот, — да: оборотчивый!
Тут мещанин в заворотье стоял; и жестоко глазами его проводил:
— Ужо будет тяпня!..
— За резак, поди, схватятся, — голос ответил. И сумерки сдвинулись.
17
Жалко мокрели дома: и, оплаканный, встал тротуар из-под снега; и Киерко думал:
— Да, да!
— Передышанный воздух, негодный.
— Москва — под ударом: она — распадается. Забочнем дома суглил он на площадь: в людскую давильню, — и в перы, и в пихи.
Лавчонки: пропучились злачности; промозглой капустой, пассолами, репой несло; снова забочень дома суглил в перекресток; и он — вместе с забочнем дома; и, двигатель улицы, двигался в улице; закосогорилось; на косолете — домишка; наткнулся на парня, который там пер, раздавая павочки, бросая плевочки — под четверогорбок (направо, под горбку налево: гора Воронухина с горбками Мухиной, с новой церквой распрекрасных фасонов и с банями, старыми очень, «таковским и», прямо при Мухином горбке); там, далее — мост; самоновейший ампир, где на серых столбах так отчетливо темный металл исщербился рельефами шлемов, мечей и щитов.
Николай Николаич смотрел с Воронухиной горки туда, где пространились далековатые домики, сжатые в двоенки, в троенки, пером заборов с надскоком над ними вторых этажей и с протыками труб из-за виснущих сизей фабричного дыма — за Брянским вокзалом; двухскатная крыша; под домом — к стене — его церковка; жалась и — дальняя лента лесов воробьевских над всем, с подприжавшеися береговою Потылихой.
Киерко все это взором окинул.
На все это двинулся полчищем мыслей своих головных, чтоб от каждой задвигались полчища кулаковатых мужчин.
Пох-пох, — прыснули светом двудувные ноздри авто: — пах бензина, подпах керосина.
Парком подвоняв, устрельнул.
В недрах нового дома с огромными окнами — в небо, взлетев над землею под небо, жила Эвихкайтен.
И Киерко шел к ней.
Мадам Эвихкайтен — зефирная барыня: деликатес, де-митон, с интересами к демономании и — парадоксы судьбы — к социальным вопросам: давала свое помещенье для двух разнородных кружков; в одном — действовал Пхач, демонист, розенкрейцер, католик, масон, что хотите (на всякие тайные вкусы!); и доха, и жрец, и священник по Мель-хиседекову чину, и дам посвятитель, сажающий при посвященьи их в ванну; и — прочее; в этот кружок приходили Тер-Беков и Вошенко, очень почтенный работник на ниве различных кружков, занимающийся лет пятнадцать историей тайных учений и подготовляющий труд свой почтенный «Каталог каталогов».
Этот кружок собирался по вторникам.
По четвергам собирался кружок социальный; его собирал Клевезаль; в него хаживал Киерко, не соглашаться, а — слушать.
Мадам Эвихкайтен же, барыня деликатес, опустивши лазури очей, очень тихо вела себя в том и в другом; и ходила в компрессиках: барыня с тиками, барыня с дергами!
У Эвихкайтен застал Вулеву, экономку Мандро.
Вулеву говорила мадам Эвихкайтен:
— Представьте, мадам, — же-ву-ди-ке [71]— мое положение, как воспитательницы…
— Ах, ужасно!
— Лизаша…
— Ужасно…
— Мадам, — же-ву-ди-ке, — что девочка — нервная и извращенная…
— Не говорите…
— А он, — же-ву-ди-ке — с ней…
— Эротоман!
— Шу-шу-шу…
— Негодяй…
— Шу-шу-шу…
— Просто чудище!!
И Эвихкайтен бледнела.
А Киерко понял, что речь — о Мандро: серо-рябенький, — молча внимал.
Очень часто здесь речь заходила при нем о Мандро; и всегда глаз скосивши на проверт носка, — улыбался вкривую: молчал, только раз прорвалось у него:
— Все Мандро да Мандро — ну-те: чушь он. Я знаю его хорошо; мы ж в Полесье встречались; вчера он — Мандро, а сегодня — хер Дорман; мосье Дроман — завтра; как Пхач ваш… Мандрашка он, — ну-те… В него ж одевается всяк: маскарадная — ну-те — тряпчонка; грошевое — нуте — инкогнито.
На приставанья сказать, что он знает, — смолчал; дергал плечиком; лишь уходя, четко выпохнул трубочкой.
— Жалко Мандрашку, как что, — его: хлоп! А паук, в нем сидевший, — сбежал… Пауки пауков пожирают «мандрашками» разными; ну-те — заманка для мух; паутиночка он… Пауки ж наплели за последние годы мандрашины всякой и сами запутались в ней; вы же, — в корень глядите: падеж будет, ну-те… Падеж — мировой!
И — ушел.
Эвихкайтен же — с тиками, с дергами — эти слова доложила Пхачу; Пхач с большим удовольствием мхакал и пхакал:
— Да, да — понимаю: вопрос объясняется своеобразием расположения токов астральных, не чистых, — и стал намекать Эвихкайтен, что надо бы сесть ей с ним в ванну: очиститься.
И Эвихкайтен ответила, что — «поняла»; ее мнения были тонки лишь в присутствии гостя; поступки с домашними — срам; все казалось зефиром — вдали; вблизи — бабища, прячущая под корсетом живот не зефирный; являлася в гости она с таким видом, как будто она — из Парижа; жила ж, как, наверно, уже не живут в Усть-Сысольске: невкусно!
А все говорила о вкусах.
Зачем посещал ее Киерко? Кто его знает.
Ответит гранитным молчаньем: ночь.
18
И не шел снежный лепень; отаи — подмерзли; сосули не таяли; великомученица Катерина прошла снеговой заволокой; за нею, кряхтя, прониколил мороз; он — повел к Рождеству, вспыхнул елками, треснул Крещеньем, раскутался инеем весь беспощадный январь, вьюгой таял; и умер почти солнепечным февральским денечком.
Но их водоводие, Март Февралевич, не капелькал по календарному способу, и Табачихинский переулок крепчал крупным настом; морозец, оживши, носы ущипнул; и носы стали ярко-брусничного цвета; согнулся под снегом заборик; стоял мещанин в заворотье; морошничал нищий; увы: длинноносая праздность таит любопытство; и Грибиков выглядел крысьим лицом из окна на проход многолицых людей.