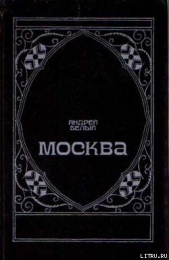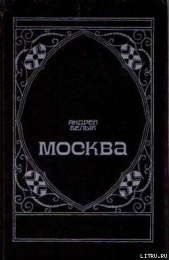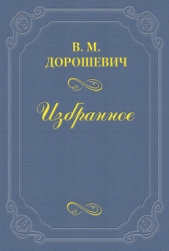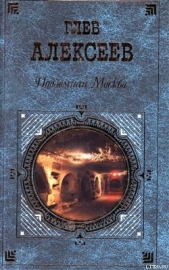Том 3. Московский чудак. Москва под ударом

Том 3. Московский чудак. Москва под ударом читать книгу онлайн
Андрей Белый вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
В третьем томе Собрания сочинений два романа: «Московский чудак» и «Москва под ударом» — из задуманных писателем трех частей единого произведения о Москве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обсыпается вшами.
Про Грибикова Телефонов заметил раз как-то:
— Есть гадины; эти — вредят; он — воняет: и — только… Какая же гадина он?
Телефонов при этом забыл: есть на свете такие вонючки, при виде которых бегут леопарды; вонючка — невинная, непроизвольная гадина; Грибиков — тоже.
Таким мертвецом безвременствовал Грибиков; и — пересиживал ногу; курил, точно взапуски; передымела вся комната; передымело в душе; в голове росла дичь; на столе перед ним — вы представьте — двуглазкой лежали очки (жестяная оправа); он руку засунул за спину; дербил поясницу своим откоряченным пальцем (не комната — просто блошница какая-то); встал и, походкой валяся набок, потащился безбокою клячею, пастень бросая; и глаз зацепился за полудырявую скатерть.
Убогая комната!
Мозгнуло — все; и — зажелкло; поблескивал очень огромных арзмеров сундук (добрину укрывал): белой жести; да фольговый Тихон Задонский отблещивал венчиком; щуркался все тараканами угол стены; переклейные стены коптели, отвесивши задрань; и, точно гардины, висели везде паутины; копченый растреск потолка угрожал старопрежним упадом; замшелое место стеснилось в углу.
И — паук там сидел, очень жирный.
В углу — этажерочка, с вязью салфеточки: дагерротипы желтели из рам, и коралл-мадрепор, весь в ноздринах, был двадцать лет сломан; вытарчивали пережелклые «Нивы» девяностых годов со стихами Куперник, Коринфского, с вечно залистанной повестью, вечно единственною, Ахшарумова и Желиховской — пожелклая «Нива» и стоптанный рыжий башмак: под постелью с полупуховою периной.
Провисли излезлые шторочки мутной китайки, покрытые мушьим пятном; искрошилася связка из листьев табачных: папуха; курился, как видно, табак «сам-кроше»; а искосины пола закрылись холстиной обшарканной.
Здесь, в комнате, десятилетия делалось страшное дело Москвы: не профессорской, интеллигентской, дворянской, купеческой иль пролетарской, а той, что, таясь от артерии уличной, вдруг разрасталась гигантски, сверни только с улицы: в сеть переулков, в скрещенье коленчатых их изворотов, в которых тонуло все то, что являлось; из гущи России, из гордых столиц европейских; все здесь — искажалось, смещалося, перекорячивалось, столбенея в глухом центровом тупике.
Вот «Москва» переулков! Она же — Москва; точно есть паучиная; в центре паук повисающий, — Грибиков: жалким кащеем бессмертным; кругом — жужель мух из паучника; та паутина сплетений тишайшими сплетнями переплетала сеть нервов, и жутями, мглой, мараморохом в центре сознанья являла одни лишь «пепешки» и «пшишки», которые очень наивно профессор себе объяснял утомленьем и шумом в ушах; ему стоило б выставить нос из-за форточки, чтобы понять, что сложенье домиков Табачихинского переулка — сплошная «пепешка и пшишка», которая, нет, не в затылочной шишке, а — всюду.
Москва переулков, подобных описанному, в то недавнее время была воплощенной «пепешкою», опухолью, проплетенной сплошной переулочной сетью.
В затылочной шишке — затылочной шишкой — посиживал Грибиков: шишка Москвы!
Отворил он притворочку: выдымить.
Бледно-синявое облако никло к закату; тянуло морозен отаи подмерзли; покрылися снегом; сосули не капали; кто-то у желтого домика остановился, увидевши: под голубым колпаком дозиратель сидит, как всегда, — желто-карим карюзликом.
Вот и завьюжило: пырснуло с завизгом.
16
Слухи о карлике и Николай Николаевич Киерко выслушал; жил в белом каменном доме, которого первый этаж та-раканил и гамил сплошной беднотой и который соседничал с желтым, торчавшим — оконцами, Грибиковым и городьбою забора: в проулочек; соединял же дома — общий двор, не мощеный, с пророиной.
Кирейко вышел на двор и посипывал трубочкой в злой, мокросизый туманец в мерлушьем тулупчике, молью потраченном, в клобуковатой шапчонке, — лизой, узкоглазый и узкобородый: да, подтепель; дни разливони, пошли; он пристал к тарарыкавшей кучке, поднявшей галдан; тут стояли средь прочих: Анкашин, Иван Псевдоподиев, семинарист переулочный (руки — виляй, к девицам — подлипа); и Клоповиченко, сторонник стремглавых решений (на трубопрокатном заводе работал и там, видно, куртку задряпал), стоял в своей куртке проплатанной (вся в переёрзах), горбастый и крепкий; Романычу что-то рукою махал.
Было видно, что ловко сбивает он бабки:
— Тетерья башка, ну чего ты стоял за свой угол, когда тебя гнали: содрал бы за угол с Мандры; теперь Грибиков карлу себе отхватил.
— И за карлу проценты стрижет, — довахлял кто-то.
Киерко, слушая, сел на бревно: подходили к нему на дворе, точно он держал двор; говорили ему с подмиганцами:
— Что ж, Николай Николаевич, — будем давить блоху миром?
И Киерко похнул дымком:
— Далека еще песня!
Двудымок пустил из ноздрей.
Говорили Романычу: Грибиков, чорт его драл, набил нос табачищем и твердо копейку берет; ссудит с ноготь, процентом возьмет с раскулак.
— Обдерет.
— Ссужал летом, а осенью, брат, — гнал взашей из угла, — ужасался Романыч.
Сочувствовали:
— Драть-то не с чего…
— Эх!
— И за правду плати, за неправду плати. Жалоб капал.
— А ну-те — пох, пох: да они ж — богатьё!
И глаза Николай Николаича нарисовали двухвьюнную линию.
— Пох! — Николай Николаич посипывал трубочкой, — пох, погоди: доживешь.
И напрасно профессор Коробкин рассказывал всем, что «Цецерко-Пукиерко» жизнь просыпал на диване; он — бегал; какие-то были дела; он частенько захаживал, — нет, вы представьте к кому — к Эвихкайтен; Эмилий Леонтьевич Милейко, поляк, пе-пе-ес, там бывал; и бывал меньшевик Клевезаль; еще чаще он бегал в Ростовский шестой, на Плющиху, где жил большевик Переулкин, где те же решались вопросы с товарищами Канизаровым, Жиковой, Грокиной о пониманьи прибавочной ценности и о Бернштейне [69].
Еще: Николай Николаевич Киерко был двороброд; и пока представлялось, что — дрыхнет, он вертко являлся везде: на заводах, в рабочих кружках, в типографиях тайных, просовывал нос к комитетчикам, к земцам, к статистикам; Киерко можно бы было открыть в буржуазном салоне, приметить в «Свободной Эстетике», где еще? Он появлялся, подшучивал; и — исчезал; и о нем говорили так мало; он «киеркой» был (с малой буквы); в «Эстетике» даже не знали, что вхож он в профессорский дом; а в профессорском доме не знали, насколько оброс он рабочими: «Киерко», «Цер», «Пук», «Цецерко-Пукиерко», — кем же он был? Циркулировал слух, что — охранник, что — максималист; ни тому, ни другому — не верили. Надо принять во внимание; он — кочевал по мозгам; и заклепывал в головы, где только мог, социальный вопрос; в «переулкинской» комнате сыпал словами «Рикардо» [70], «Бернштейн», «Ортодокс», «Искра», «Ленин» и «Маркс»; на дворах — прибаутками; да, — веретенил словечками вертко; от слов оставались какие-то все уколупины; можно сказать, — ломал мыслями кости он; ставил остов воззрений для всех дворобродов. — Квасильня сериозная! Так говорили они.
— Нагорстаем мы жизнь, — пустопопову бороду брей, — веселился глазенками Клоповиченко.
В Романыче болью проснулось тупой забиенное место в душе; и ногою он пса отопнул от канавины: пес меделянский откуда-то бегал сюда.
— Где уж.
— Ну-те же вы — все с нюгандами, — выпохнул Киерко.
И — задождило пустым пустоплюем в лицо.
— Это разве же жизнь, — за свободу стоял Псевдоподиев, — аполитичность одна: правовая свобода нужна, брат Романыч.
А Клоповиченко ему:
— Так-растак!
— Так-растак!!
— Так-растак!!!
На него:
— Я уж знаю: тебе революцию — с барином? Сунет под нос тебе редьку.
Смеялись:
— Подохнешь от эдакой ты переживаки невкусной.
— Ужо вот покажет тебе Милюков: воля — ваша; а наше, брат, — поле.