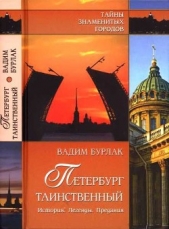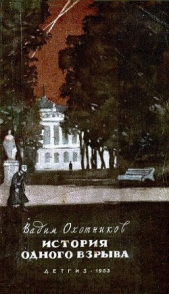История одного путешествия

История одного путешествия читать книгу онлайн
Книга Вадима Андреева, сына известного русского писателя Леонида Андреева, так же, как предыдущие его книги («Детство» и «Дикое поле»), построена на автобиографическом материале.
Трагические заблуждения молодого человека, не понявшего революции, приводят его к тяжелым ошибкам. Молодость героя проходит вдали от Родины. И только мысль о России, русский язык, русская литература помогают ему жить и работать.
Молодой герой подчас субъективен в своих оценках людей и событий. Но это не помешает ему в конце концов выбрать правильный путь. В годы второй мировой войны он становится участником французского Сопротивления. И, наконец, после долгих испытаний возвращается на Родину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все шли медленно, еще болели натруженные переходом из Нового Афона в Сухум, распухшие ноги. Вскоре мы с Плотниковым оказались впереди и почувствовали себя совершенно потерянными среди черно-коричневого кладбища Колхиды.
— Ну вот, кончено наше путешествие… — Плотников говорил угрюмо, сквозь зубы, упрямо глядя себе под ноги. Он сутулился и, несмотря на свой рост, казался маленьким и жалким. — Федя ранен, Иван Юрьевич скрылся, остались мы с тобой вдвоем.
— Может быть, мы сможем перезимовать в Батуме и в мае… Ведь осталось каких-нибудь два месяца. — Я говорил без всякой уверенности, зная, что все кончено.
Я пытался убедить Плотникова и себя самого в том, что мы еще можем что-то сделать: уйти в горы, разыскать новых товарищей, наконец, «умереть с музыкой», но чем больше я говорил, тем яснее становилось, что мы уже ни на что не способны, и меньше всего на то, чтобы действительно умереть с музыкой.
Уже в сумерки мы добрались в С. У всех разболелись еще не зажившие ноги, и мучил надоедливый голод. Без особой надежды Милешкин обратился к начальнику станции, и тут произошло чудо: седоусый грузин понял по-своему просьбу кубанского правительства оказать нам моральную поддержку и с чудесной щедростью бедного человека отправил всех нас к себе на кухню. Здесь в очаге, в огромном закоптелом котле, варилось баранье сало. Не знаю, для чего понадобилось начальнику станции такое количество сала, но его хватило на всех восемнадцать человек. С упоением вонзал я зубы в мягкую, податливую массу, глотал обжигающие пищевод жирные куски и чувствовал, что все отступает перед неизъяснимым восторгом насыщения. Выпив несколько ведер воды, совершенно пьяные от сытости, мы едва успели вскочить на батумский поезд, — конечно, без билетов, — неожиданно появившийся около темной платформы.
«Завтра увижу Федю», — подумал я, засыпая на багажной полке — единственное место, оказавшееся свободным в переполненном купе.
Мы приехали в Батум ночью, ждали несколько часов рассвета под стеклянным сводом ледяного вокзала и потом целый день вдвоем с Плотниковым бегали в поисках раненых кубанцев. Город был полон беженской бестолочью все были злы, голодны, угрюмы. Уже вечером на Дундуково-Корсаковской я встретил сотрудника Особого отряда того самого красавца грузина, который месяц тому назад арестовал нас на «Сиркасси». Он посоветовал попытать счастья в русской гимназии — там обосновался один из бесчисленных военных госпиталей.
Было уже темно, когда мы вошли в большой гимназический двор. Нас направили к стоявшему особняком длинному павильону с наглухо закрытыми окнами, предупредив, что все равно внутрь не пустят и что лучше нам прийти на другой день. В крохотной приемной тускло горел ночничок, пахло йодом и карболкой. За конторкой сидел санитар в засаленном халате.
— Мятлев, Федор, — он долго водил пальцем по регистру, — да, здесь. В старшем приготовительном классе. Можете его увидеть завтра, сегодня уже поздно… Как его здоровье? Да хорошо, что ему сделается. Вы кто ему будете?
— Брат, — соврал я.
Санитар лениво поерзал на стуле, потом все-таки встал и, открыв узкую дверь в коридор, крикнул в больничный, настороженный сумрак:
— Тут про Мятлева спрашивают. В старшем приготовительном. Как здоровье?
Ответа я не слышал. Санитар, переспрашивая, крикнул:
— Так, так, понимаю. Правую руку.
Вернувшись к конторке, он сел, сложил руки на черном животе и, помолчав несколько секунд, проговорил скучным, тягучим голосом:
— Вашему братцу сегодня пришлось ампутировать правую руку (он произнес с особенным наслаждением слово «ампутировать»). Гангрена. Операция прошла благополучно. Только не знаю, завтра пустят ли, он слаб очень.
Мы вышли с Плотниковым во двор. Идти было некуда. Моросил мелкий, надоедливый дождь. Мы были мокры, и зам хотелось есть. Нерешительно, останавливаясь на каждом углу, мы начали бродить по пустынным, скупо освещенным редкими фонарями, грязным улицам. После многочасового блуждания мы снова вышли к зданию русской гимназии, — вероятно, бессознательно стараясь быть ближе к Феде. Дождь прекратился, но поднялся отвратительный холодный ветер, налетавший резкими порывами, — мартовская весенняя погода. Мы были совершенно измучены. Когда мы устраивались под высокой, тонувшей в темноте стеклянной крышей парадного подъезда гимназии, на нас в темноте налетела человеческая тень и, ругаясь, сказала:
— Тоже нашли место! Идите в пятый класс — там свободно, да и теплее будет.
Не веря своему счастью, мы проникли в гимназию. Повсюду, во всех углах, в коридорах, в большом рекреационном зале, на полу валялись тела — главное здание гимназии было предоставлено беженцам. Мы добрались до пятого класса. Действительно, здесь были свободные места — целая стена оставалась незанятой. Я улегся на деревянном полу, кое-как завернувшись с головой в мой халат.
«У Феди отрезали руку. Федя — инвалид». Нелепое слово «инвалид», связанное в моем сознании с заголовком какой-то газеты, росло, ширилось, стало живым, печатные буквы налились кровью и начали плясать перед глазами. Тошнота подступила к горлу, но вот я почувствовал, что проваливаюсь в бездну сна и благодетельная темнота охватывает меня со всех сторон.
На другой день мне удалось, по-прежнему выдавая себя за брата, пробраться к Феде. Плотникова не пустили. В старшем приготовительном классе, большой квадратной комнате, стояли разнокалиберные, по-видимому собранные со всего города, железные кровати. На стенах висели картины — крестьянский двор с неправдоподобной оранжевой лошадью на первом плане, маленькая синяя река, где над бумажной водою в неудобной позе застыл рыболов в широченной соломенной шляпе, коричневые борозды уходящей вдаль пашни и сбоку игрушечная деревня с островерхой немецкой кирхой. В углу стоял большой, с облупившейся белой краской железный шкаф. Если бы не острый запах лекарств, пропитавший холодный воздух комнаты, то казалось бы, что находишься не в лазарете, а на складе старой мебели. У высокого окна с матовыми стеклами на огромной двуспальной кровати, закрытый до самого подбородка байковым одеялом, неподвижно лежал Федя. Его маленькое тело еле виднелось под складками одеяла, тонуло в неизмеримом пространстве кровати, окруженное со всех сторон ледяными полями белых простынь. Он лежал, закрыв глаза, его лицо, покрытое многодневной щетиной, похудело до неузнаваемости — прежним оставался только прекрасный высокий лоб, покрытый прозрачными бисеринками пота.
— Федя, — позвал я и осекся: мой голос показался мне визгливым и отвратительным.
Мятлев медленно, с огромным трудом, открыл голубые, с непомерно расширенными зрачками, лихорадочные глаза.
— Наконец ты пришел. Я думал, что никогда не увижу тебя.
Федя говорил с трудом, еле слышным, как бы прозрачным, голосом. Он заикался больше обыкновенного. Я молчал: слова, приходившие мне в голову, были бессмысленны и ненужны.
— Где Ваня? Я хотел бы его повидать.
— Его не пустили, он придет завтра.
— Завтра? Завтра я его не увижу. Нагнись ко мне ближе, мне трудно говорить. Вот так. Я видел Ивана Юрьевича на вокзале в Батуме. Ты скажи Плотникову, чтобы он его не трогал, а то он не выдержит. Скажи ему от моего имени.
Федя замолчал и закрыл глаза.
— Рука болит, — вдруг неожиданно громко сказал он. — Поправь мне руку.
Я приподнял край одеяла и увидел круглое плечо, покрытое грязными бинтами с пятнами запекшейся, черной крови. Невольно, не в силах удержаться, я тронул пальцем безрукое плечо. Федя вздрогнул всем телом.
— Осторожней, осторожней… Ну, вот так. Локоть болит. — Он открыл помутневшие, свинцовые глаза, в которых внезапно потух всякий блеск.
— Сядь в ногах, а то мне кажется, что кровать поднимается в воздух. Я тебе говорил, — продолжал он, помолчав, — что на нашей колокольне треснул альтовый колокол. Ты уж постарайся, помоги отцу, надо колокол заменить, а то звон получается такой: дон, дон, дзинь, дон, дон, дзинь.