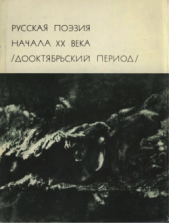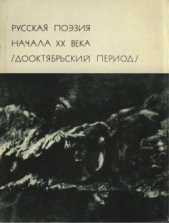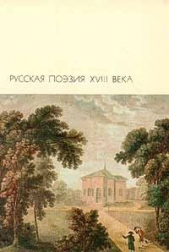Житейские сцены
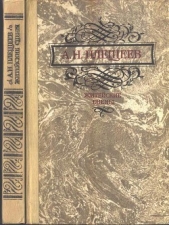
Житейские сцены читать книгу онлайн
Алексей Николаевич Плещеев (1825—1893) известен прежде всего как поэт, лучшие стихи которого с первых школьных лет западают в нашу память и, ставшие романсами и песнями, постоянно украшают концертные программы. Но А. Н. Плещеев — также автор довольно обширного прозаического наследия, из которого вниманию читателей предлагаются повести 40—50-х годов. В плещеевской прозе нетрудно проследить гражданские мотивы его поэзии: сострадание простому человеку, протест против унижения человека, против насилия и произвола в любых формах, осмеяние невежества, мракобесия, сословно-чиновной спеси. Как и все творчество писателя, проза А. Н. Плещеева отличается стойким, последовательным демократизмом и непоколебимой верой в высокие идеалы народолюбия, гуманизма и свободы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что это Павел не писал с последнею почтой? — произнесла Авдотья Федоровна, когда Заворский и Лиза замолчали.
— Да, верно, сам едет,— отвечал Яков Петрович.
— Хорошо, как бы так, а что, если захворал!
— Ну вот, Авдотья Федоровна, вы уж начали, смотрите, завтра или послезавтра прикатит.
В эту минуту на улице раздался звон колокольчика.
Все вскочили с мест и, подбежав к окнам, стали прислушиваться. Колокольчик становился все слышней и слышней; он все приближался и наконец зазвучал в той улице, где был дом Глыбиных. Несколько мгновений спустя дорожный экипаж остановился у подъезда этого дома.
Авдотья Федоровна, Заворский и Лиза вышли на крыльцо встретить приехавшего.
IV
Новая жизнь
— Вот вам гость,— сказал Глыбин, поцеловавши дочь и жену и пожав руку Заворскому, и при этих словах указал на входившего за ним в комнаты Владимира Николаевича.— Это сын Лидии Евграфовны Пашинцевой.
Услышав это имя, жена Глыбина радостно вскрикнула.
— Сын Лидии Евграфовны! — проговорила она.— Ах, скажите. Вот не думала увидеть вас здесь, молодой человек.
Владимир Николаевич ловко раскланялся.
— Подойдите-ка, подойдите-ка сюда поближе к лампе,— продолжала Авдотья Федоровна, подводя Пашинцева к свету и разглядывая лицо его.— Похож, похож! Как две капли воды. Мы с вашею матушкой очень дружны были. Я никогда не забуду того, что она для меня сделала. Она была моя благодетельница… Да,— помолчав немного, прибавила Авдотья Федоровна,— она умела заставить любить себя.— И слезы навернулись на глазах говорившей.— Очень, очень рада. Что ж вы к нам, на время или совсем?
— Все зависит от обстоятельств,— отвечал Владимир Николаевич, тронутый воспоминанием о матери.— Думаю, что скорей совсем.
— Конечно, совсем,— возразил Глыбин.— Владимир Николаевич служить здесь хочет.
— Доброе дело, доброе дело,— сказала Авдотья Федоровна.
— И жить будет у нас. Я к тебе не писал об этом, потому что некогда было. Позаботься же приготовить ему комнату — ту, что рядом с библиотекой; она ведь не занята?
— Нет, нет, не занята. Распоряжусь тотчас. Как я рада, право! — И Глыбина вышла из комнаты.
— А вот моя дочурка, Владимир Николаич,— сказал Глыбин, обнявши Лизу,— рекомендую, видите какая, только что не переросла отца.
Владимир Николаевич, поклонившись еще раз, произнес какую-то очень ловко составленную французскую фразу, смысл которой был тот, что он желал бы, чтобы семейство Лизы считало его не чужим себе и чтобы Лиза видела в нем брата, как ее мать видела сестру в его матери. Эту фразу он долго обдумывал дорогой и заучил в нескольких редакциях, прилаживая к разным обстоятельствам, которые могли, по его соображениям, сопровождать прием его у Глыбиных.
Хотя каждая из ухабинских барышень на месте Лизы непременно бы после этой фразы пришла в восторг от Владимира Николаевича и, улучив удобную минуту, выбежала бы в другую комнату, чтобы сказать своей маменьке, que ce jeune homme est charmant [52], но на Лизу слова молодого человека не сделали ровно никакого впечатления, ни дурного, ни хорошего; она только увидела, что у Пашинцева есть, как говорится, много апломбу. Заворскому, менее снисходительному, чем Лиза, фраза Владимира Николаевича положительно не понравилась. Искреннее чувство Авдотьи Федоровны, по мнению Заворского, должно было бы вызвать и со стороны приезжего менее искусственное приветствие. Впрочем, когда его познакомили с Пашинцевым, Яков Петрович довольно крепко пожал ему руку; а Лиза, после слов Владимира Николаевича, подала ему свою и произнесла тоже по-французски;
— Желаю, чтобы мы были друзьями…
Скоро подали чай, и завязалась живая, искренняя беседа, в которой, конечно, менее всего принимал участие Пашинцев, не успевший еще хорошенько ознакомиться с окружавшими его лицами. Он более наблюдал и, казалось, хотел по физиономиям угадать характеры этих людей. На все вопросы Авдотьи Федоровны о семействе Пашинцева он отвечал весьма охотно и с большим тактом; а такт в этом случае был очень нужен ему, потому что Глыбина, не зная, что привело его в провинцию, делала иногда такие вопросы, которые поставили бы другого на месте Владимира Николаевича в тупик. Глыбин несколько раз взглядывал значительно на жену при ее расспросах, но она или не видела, или не понимала этих взглядов. Владимир Николаевич, не распространяясь подробно о своих обстоятельствах, намекнул, однако же, что считает себя обязанным Глыбину, протянувшему ему руку в очень трудную минуту его жизни. Лиза ограничилась несколькими вопросами относительно петербургской жизни, оперы, которую ей очень хотелось бы послушать, и литературы. Относительно первого Владимир Николаевич вполне удовлетворил ее любопытство и сделал весьма живой очерк столичных удовольствий; об опере отзывался довольно поверхностно, но при этом очень мило сострил над своим немузыкальным ухом, так что заставил невольно простить себе поверхность своего отзыва. Что же касается до литературы, то тут он оказался совершенно несведущим. Имена лучших современных писателей наших были ему или вовсе не известны, или известны лишь понаслышке. Как ни старалась скрыть свое удивление Лиза, в простоте сердечной думавшая, что петербургскому юноше стыдно не читать ничего русского, это удивление, однако ж, не ускользнуло от Пашинцева, и он покраснел. Но еще более пришел он в замешательство, когда Глыбин завел с Заворским какой-то серьезный разговор и когда Заворский, высказав свое мнение, обратился к Владимиру Николаевичу со словами: «Как вы на этот счет думаете?» Пашинцев никогда ни о чем серьезном, выходившем из сферы его пустой и праздной жизни, не думал, и многие предметы, о которых говорили Заворский и Глыбин, как-то дико звучали в его ушах. Владимир Николаевич уже называл в душе своих собеседников, по привычке, педантами и нетерпеливо ждал, когда наконец придет время спать. Глыбин, казалось, заметил неловкое положение молодого человека, потому что всячески старался свернуть разговор на повседневные, житейские предметы, доступные Пашинцеву; но Заворский, обрадовавшись, что видит перед собой человека, только что возвратившегося из Петербурга, не переставал расспрашивать Глыбина, что говорят и думают в известных кружках о том или другом общественном вопросе, что́ гласное судопроизводство, как стоит дело об устройстве крестьянского быта, какие толки о политических новостях, какое впечатление произвела такая-то статья журнала, чего ожидают от такого-то деятеля на административном поприще. Словом, Заворский едва давал Глыбину отвечать; не успевал тот кончить, как Заворский забрасывал его новыми расспросами, и расспросам этим, казалось Владимиру Николаевичу, не будет конца. Не менее, чем весь происходивший при нем разговор, удивляло его и то, что Лиза внимательно прислушивалась к этому разговору, что ее не только не клонило ко сну, но что, напротив, в глазах ее так и просвечивалась любознательность, и они беспрестанно переходили с Глыбина на Заворского, с Заворского на Глыбина. Она даже раза два перебила разговаривавших и сделала Заворскому довольно меткое и показавшееся Пашинцеву справедливым возражение против публичного воспитания женщин, которому она решительно предпочитала домашнее… «Да это синий чулок,— подумал Владимир Николаевич,— губернская Жорж Санд». Но, несмотря на насмешку над Лизой, сложившуюся в уме его, он чувствовал некоторую досаду, что молоденькая девочка знает больше его и судит о таких вещах, о которых он понятия не имеет. Самолюбие его было задето. Ему очень хотелось знать, какое она составила себе о нем мнение… «Уж, конечно,— думал он,— такое, что я невежда, пустейший человек! Что же больше она могла вывести из моих разговоров?» Он внутренне сознавал, что она вправе была сказать это.
Наконец подали спасительный ужин; в продолжение его Владимир Николаевич был молчалив и задумчив; это, конечно, приписали усталости с дороги, чему он был крайне рад, вовсе не желая, чтоб общество догадалось о тайной причине его неудовольствия,— причине, заключавшейся в сознании своей пустоты, которое впервые пробудилось в сердце молодого человека.