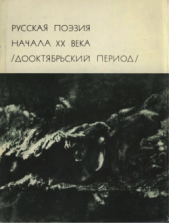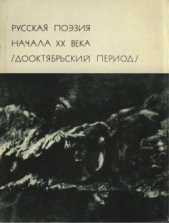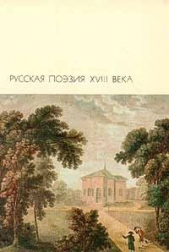Житейские сцены
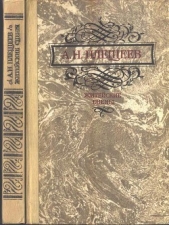
Житейские сцены читать книгу онлайн
Алексей Николаевич Плещеев (1825—1893) известен прежде всего как поэт, лучшие стихи которого с первых школьных лет западают в нашу память и, ставшие романсами и песнями, постоянно украшают концертные программы. Но А. Н. Плещеев — также автор довольно обширного прозаического наследия, из которого вниманию читателей предлагаются повести 40—50-х годов. В плещеевской прозе нетрудно проследить гражданские мотивы его поэзии: сострадание простому человеку, протест против унижения человека, против насилия и произвола в любых формах, осмеяние невежества, мракобесия, сословно-чиновной спеси. Как и все творчество писателя, проза А. Н. Плещеева отличается стойким, последовательным демократизмом и непоколебимой верой в высокие идеалы народолюбия, гуманизма и свободы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы не ждали меня, Владимир Николаич? — сказал он, протягивая руку хозяину.
— Да, вы довольно редко меня посещаете, Павел Сергеич,— отвечал тот.— Садитесь-ка.— Молодой человек придвинул гостю кресло.— Или сюда не хотите ли, к камину.
— Нет, благодарю. Я не люблю тепла. Я приехал с намерением потолковать с вами серьезно, Владимир Николаич.
— Разве вы когда-нибудь говорите иначе? Я всегда удивлялся вам в этом отношении, как и во многих, впрочем; мне казалось, что вы никогда ни о чем не думаете, кроме серьезных вещей.
— Мне было бы и грешно заниматься тем, что тешит вас, молодежь. На все свои годы. Было и мое время. Я отдал дань молодости и давно распрощался с ее увлечениями. У меня на руках семья и несколько сот человек, за которых я несу ответственность перед богом и совестью.
— Это так, но всякий ли способен остановиться вовремя, Павел Сергеич? Всякий ли способен, во имя обязанностей, отказаться от самой привлекательной стороны жизни?..
— Вы говорите, как юноша… Эта самая привлекательная, по вашим словам, сторона жизни кажется только такою, пока не улеглись страсти, не остыла кровь, пока рассудок не вступил в свои права, которых не хочет признавать молодость. А потом на эту привлекательную сторону начинаешь смотреть совсем иными глазами и уж далеко не удовлетворяешься ею. Для старика возможно одно счастье — это сознание, что посильно исполняешь свой долг, словом,— счастье спокойной совести. Но будет об этом, скажите мне, что вы намерены теперь делать с собой?
При этих словах молодого человека несколько покоробило.
— Что делать…— отвечал он, горько улыбнувшись.— Ничего.
— Как ничего? На что-нибудь надо же решиться,— возразил гость с некоторою резкостью, и лицо его приняло строгое выражение.
— На что же, почтеннейший Павел Сергеич? Вы, кажется, меня немножко знаете; знаете мое прошедшее и можете сказать, к чему я годен… Мне остается одно из двух: или пустить себе пулю в лоб, или идти в маркеры. Вы меня застали в раздумье, на какую из этих двух мер решиться.
— Если вы хотите меня удивить хладнокровием и беспечностью в критическую минуту жизни, так вы ошибаетесь. Я давно перестал удивляться, да и пожил слишком много на свете для того, чтобы верить искренности подобного хладнокровия.
Молодой человек сделал движение, но гость тихо положил на его руку свою и, не дав ему возразить, продолжал:
— Не прикидывайтесь оскорбленным: я убежден, что вы в глубине души признаете меня правым; а лучше выслушайте меня. Вы сказали, что вы ни к чему не годны,— это вздор. Воспитание и жизнь, которую вы вели до сих пор, правда, значительно исказили вашу природу, но, однако же, не до такой степени, чтоб окончательно лишить вас воли. Хоть вы и стараетесь казаться хладнокровным, но ваши слова обличают совершенный упадок духа. Если же это только непростительная, глубоко вкоренившаяся в вас леность, то вы должны победить ее, и победите. Людей, ни к чему не годных, нет. Есть люди, которые не хотят быть ни к чему годными, это так. И, может быть, вы один из них. Стыдно, Владимир Николаич! Вы дурь на себя напускаете. Оглянитесь, в какое время мы живем. Ничего не делать — грех перед богом и ближними. Знаете ли вы, что, когда я услыхал о перемене, происшедшей в вашем состоянии, я только в первое мгновение пожалел о вас, а потом сказал себе: это, может быть, к лучшему.
— Благодарю вас за это лучшее,— насмешливо перебил говорившего молодой человек.
— Не иронизируйте, Владимир Николаич, я опять повторяю, может быть, все к лучшему. Вы оглянетесь на свое прошедшее и покончите с ним навсегда: житейские бури укрепляют человека. Вдумайтесь хорошенько в свое положение, загляните в себя самого поглубже, авось и найдете еще силу для честной и полезной деятельности. Вы еще очень молоды, Владимир Николаич, и все дороги перед вами открыты, бог дал вам ум, способный понять, что труд возвышает и облагораживает человека, что уподобляться рабу, лукавому и ленивому, зарывшему в землю талант свой, жить для одного себя и чужими трудами,— ничуть не похвально. Бог дал вам сердце, готовое любить все доброе и хорошее и отвергнуть все злое и недостойное. Но на сердце этом начала нарастать кора; не дайте ей загрубеть, разбейте ее вовремя, пока еще не поздно, и избавьте свой зрелый возраст от бесплодного раскаяния и угрызений совести, неминуемых в противном случае. Когда этот возраст придет, может быть, с ним и придет желание что-нибудь делать, да уж трудно будет превозмочь себя. Бездействие войдет в привычку, а что сильнее привычки? Если мои старческие советы не довольно убедительны, я прибавлю к ним имя, на которое, надеюсь, отзовется сердце ваше, которое должно быть ему дорого,— имя вашей матери. Да! Владимир Николаич, ее именем я прошу вас, возьмитесь за дела; перестаньте бить баклуши; будьте чем-нибудь.
— Что же мне делать, Павел Сергеевич, научите, что начать, куда броситься!..
— Так как у вас нет никакого особенного призвания, служите…
— Служить! Легко сказать, когда я не имею ни малейшего понятия о том, что такое служба. Я не сумею написать самой вздорной бумаги.
— Привыкнуть недолго. В два-три месяца, если не будете лениться, узнаете весь порядок, научитесь всем формальностям, это пустое. Была бы добрая воля.
— Но где же я найду место, какие у меня связи? Друзья моего отца, которые пили и ели у него чуть не каждый день, по смерти его не хотели на меня и глядеть. Когда я сделал им визиты, они приняли меня так важно и холодно, вероятно, пронюхав, что дела мои плохи, и боясь, чтоб я не стал просить о чем-нибудь,— что я дал себе слово больше не быть у них, а о моих собственных друзьях и говорить нечего. Вот уж две недели, как ни один носу ко мне не кажет. Да они и не могли бы для меня ничего сделать, потому что сами слишком мало значат.
— Я думаю, вам нет нужды оставаться в Петербурге; в нем хорошо с деньгами, а вы должны теперь сами, собственным трудом добывать их. Притом, самолюбию вашему придется испытывать беспрестанные толчки, неизбежные при такой перемене положения; поезжайте в провинцию.
— И рад бы, но куда?.. и как же я там найду себе место?
— За это я берусь. Поедемте вместе в Ухабинск. Я живу там пятнадцать лет, мне там все знакомы. Я представлю вас тамошним властям и ручаюсь, что вы получите место: сначала, конечно, не бог знает какое, но все же не без жалованья. Там жизнь дешевле. Квартиры вам нанимать не надо, поселитесь у меня, семейство мое будет вам радо. Мы будем считать вас своим. В Ухабинске есть люди порядочные, образованные; есть книги, с тоски не умрете. Ну, что ж, по рукам?
— Благодарю вас, Павел Сергеевич… но я, право, не знаю…
— Что же вас останавливает?..
— Когда вы думаете ехать?
— Через неделю… О дороге тоже не заботьтесь. Мы поедем из Москвы в моем экипаже. Ну, так прощайте, у меня есть дела.
— Верьте мне, что я никогда не забуду того, что вы для меня делаете.
— Без благодарности, я для вас ничего не делаю. Я помню приязнь вашей матушки, помню все, что она сделала для моей жены, а следовательно, и для меня. Оказывая вам услугу, я плачу старый долг, я благодарю бога, что представился случай заплатить его, хоть и далеко не вполне. Желаю от глубины сердечной, чтоб иная духовная жизнь началась для вас и чтоб эта жизнь как можно менее походила на ваше прошлое. Прощайте, друг мой.
Глыбин, пожав молодому человеку руку и дружески поцеловав его на прощанье, вышел.
Оставшись один, Владимир Николаевич несколько минут постоял в задумчивости на одном месте; потом продекламировал:
и, закурив новую сигару, опять поместился перед камином.
«Какой, однако же, славный человек этот Глыбин,— подумал он,— а я прежде считал его сухим педантом и гордецом. Правда, он говорит немножко высокопарно, но сердце у него отличное».
II
Прошедшее Пашинцева
Отец Владимира Николаевича Пашинцева служил в молодости в гусарах, но еще поручиком вышел в отставку, вследствие каких-то неприятностей с своим полковым командиром, причиной которых, как говорили многие, была жена этого последнего, страстно влюбившаяся в Пашинцева. Слухи эти тем более казались вероятными, что молодой гусар обладал прекрасною наружностью и самыми изящными манерами. Образования он блестящего, правда, не получил, но на это обстоятельство смотрели тогда много снисходительнее, чем нынче; и притом Пашинцев, потолкавшись между порядочными людьми, приобрел такую сноровку, такое уменье скрывать свои недостатки, что никому никогда и в голову не пришло назвать его необразованным. Вообще он мог бы выбрать девизом своим: «Слыть, а не быть», потому что в свете ему приписывались постоянно качества, которых у него не было. Он умел очень мило рассказать анекдот, сострить насчет ближнего, особенно если этот ближний не принадлежит к числу сильных мира сего, умел ловко вклеить в разговор цитату из модного французского романа; и прослыл человеком умным, тогда как ум его глядел весьма недалеко. Относительно понятий о нравственности он всегда был на стороне большинства и придерживался той обыденной, уличной морали, которую можно сравнить с монетой, перебывавшею в стольких руках, что на ней совершенно изгладились все знаки, определявшие ее стоимость, но потому-то именно и успел заслужить название глубоко нравственного человека, хотя правила, руководившие им, были очень шатки и не один грешок лежал у него на совести. Ни одна лотерея в пользу бедных, ни один домашний спектакль не обходились без его участия. Он неподражаемо исполнял роли jeunes premiers [46] и имел приятный, хотя несильный тенор, приводивший дам в необычайный восторг. И вот про него говорили, что он человек с добрым, чувствительным сердцем, хотя доброты его только и хватало на публичную, гласную филантропию, а чувствительность проявлялась в одном пении французских романсов и водевильных куплетов, тогда как в душе его свил себе гнездо самый черствый, самый подленький эгоизм. С юных лет Пашинцев заботился всего более о связях. Чтобы втереться в расположение к знатным, он пускался на тысячу маленьких низостей, искательств и угождений; и в этом случае ему значительно помогала его наружность, которая делала всегда очень приятное впечатление на женщин, так что им он, кажется, преимущественно и был обязан своими успехами в свете. Впоследствии это искательство превратилось у него в хроническое и отпечаталось на всех приемах и движениях его, приобретших необыкновенную вкрадчивость. Лет тридцати с небольшим он женился на побочной дочери одной важной особы и взял за женой такой куш, который мог бы вполне обеспечить на всю жизнь и его и его потомство. Но вышло не так, он дал полный разгул своему тщеславию, получил, посредством важной особы, доступ во все салоны, давно составлявшие предмет его задушевных помыслов и стремлений, захотел явить себя достойным такого знакомства и решился жить, что называется, на широкую ногу. Балы, обеды, пикники, рауты, folles journées [47] и пр. сменяли друг друга. Играть он садился не иначе, как по самой большой, с знаменитейшими игроками клуба. В опере и во французском театре абонировал ложу; дом свой отделал так, что даже затмил своего покровителя; экипажи и лошади Пашинцева возбуждали всеобщее удивление. Словом, он показал, что умеет жить и относительно вкуса поспорит хоть с кем угодно. При подобном существовании, разумеется, не могло надолго хватить денег, взятых в приданое за женой; и Пашинцев должен был это предвидеть. Однако же он не унывал, рассчитывая, видно, на дальнейшее покровительство тестя, а может быть, и на счастливую игру или на ловкость и изворотливость своего ума. Но известно, что «жестокий рок» очень часто совершенно непредвиденным образом расстраивает самые верные людские соображения. И над головой Пашинцева разразился удар, которого он всего менее ожидал. Тесть его умер скоропостижно от апоплексического удара, прежде чем Пашинцев успел уговорить его сделать в пользу дочери духовное завещание. Имение важной особы перешло к законным наследникам, сестре и племяннику, жившим уже несколько лет за границей и находившимся с покойником в очень холодных отношениях. Пашинцев не имел даже возможности завести процесс, потому что жена его была незаконная дочь важной особы, так внезапно переселившейся в лучший мир. Как ни прискорбно было сердцу отставного гусара изменить образ жизни и расстаться с безумною роскошью, в которую он успел втянуться, но другого средства для избежания совершенной нищеты не оставалось. И вот, уплативши часть своих долгов, которых, мимоходом сказать, накопилось довольно, Пашинцев оставил Петербург и поселился в Москве. Но и тут он не мог отказаться от аристократического знакомства и английского клуба, хотя уж дом был отделан не с такою роскошью, орловские рысаки не изумляли более прохожих и ложи в итальянской опере иметь было не нужно, по неимению самой оперы. Предлогом к переселению, конечно, как это всегда бывает, послужил сын, которого Пашинцев хотел приготовлять в Московский университет. «Я хочу,— говорил заботливый отец,— чтобы сын мой получил фундаментальное образование, а Московский университет лучший во всей России». Конечно, те, кому он говорил это, недоверчиво улыбались при его словах, тем более что сыну минуло всего девять лет и, следовательно, в университет готовить его было немножко рано. Может быть, Пашинцев подчас сознавал и сам, что ему не верят, но уж так, видно, человек создан, что убаюкает себя ложью, да и успокоится. По смерти тестя Пашинцев выказал всю черствость и даже гадость своей натуришки, совершенно изменившись в обращении с женой, словно та была виновата, что он сорил деньгами для удовлетворения своего тщеславия и что расчеты его и соображения лопнули вдруг подобно мыльному пузырю. Притворная нежность и заботливость, которыми при жизни важной особы Пашинцев окружал жену и которые доставили ему в свете репутацию прекрасного мужа, заменились холодностью, порой даже грубостью и попреками. Переход этот тем глубже поразил Пашинцеву, что совершился чрезвычайно резко, без всякой постепенности. Пашинцев не считал нужным и маскироваться перед женой. Если б он мало-помалу охладевал к ней, положим, что ей было бы не легче, но она по крайней мере могла бы приписать эту холодность только непостоянству, теперь же перед ней разоблачались корыстолюбие, алчность, тщеславие и грубость мужа, и она потеряла к нему всякое уважение. Она увидела ясно, что он никогда не любил ее, что нежность его была напускная, что он из видов женился на ней, из видов обращался с нею деликатно. Слабая и болезненная от природы, она, казалось, с этим ударом утратила последний остаток сил и с каждым днем таяла как свеча. Вся привязанность ее сосредоточилась на ребенке, который, как будто инстинктивно чувствуя, кто прав и кто виноват в этом семейном разладе, происходившем перед глазами его, платил своей матери такою же нежною любовью, тогда как отца боялся, и только. Это еще более вооружило Пашинцева против жены. Но она недолго тяготила его своим присутствием. Смерть давно сторожила ее, и быстро развивавшаяся чахотка свела бедную женщину в могилу. С приличною, изящною печалью шел Пашинцев за гробом своей жены; присутствовавшие на похоронах говорили, что он до такой степени убит, что не может плакать. По смерти матери Владимир перешел под надзор гувернера, пустейшего француза, придерживавшегося крепких напитков; он занимал своего питомца преимущественно гимнастическими упражнениями. Отца ребенок видал только по утрам, когда его водили к нему в кабинет для целования родительской ручки. По целым дням Пашинцев не бывал дома. Вечера проводил в клубах или аристократических московских гостиных; обедал тоже по большей части в гостях или в ресторанах, а если и случалось ему садиться за стол дома, то только тогда, когда он приглашал к себе гостей; но ребенок в эти дни должен был оставаться у себя в детской, потому что разговоры папаши с гостями не отличались скромностью. К довершению всего, Пашинцев, наскучив вдовством, сошелся с какою-то наездницей из цирка, для которой отлично меблировал квартиру, завел низенькую карету на лежачих рессорах и задавал то и дело ужины с шампанским. Наконец настало для Владимира время вступления в университет.