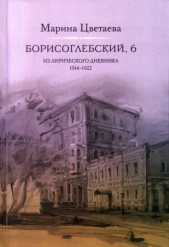Проза (сборник)

Проза (сборник) читать книгу онлайн
«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– значит, и на красоту и на некрасоту не смотрят... Точно я уже тогда знала то, что так непобедимо, неискоренимо и торжествующе знаю теперь: что там – отыграюсь. И последнее предзнание людей с их чистосердечнейшими поговорками о псе и льве, синице и журавле, погонщике мулов и царе – я знала, что соперников в этой любви у меня не будет.
Что главное в любви? Знать и скрыть. Узнать о любимом и скрыть, что любишь. Иногда скрыть (стыд) пересиливает знать (страсть). Страсть тайны – страсть яви. Так было и со мной. Мне было невыносимо говорить о Наде и невыносимо не знать о ней. Но еще невыносимее называть, чем не знать. Я жила, как робкий нищий, случайными подачками, как потом, выросши, в Революцию, подачками музыки на улице, ночью, под чужими окнами. (Так мне раз из арбатского ночного окна «подали» Рахманинова – сам Рахманинов.) Я жила случайными словами о ней, без моих, наводящих. Больше скажу: как только отец, нашими далекими еловыми походами (а мать все лежала, лежала, лежала, это было ее последнее лето, уже лежачее, уже под елями), как только отец начинал нам что-нибудь о той рассказывать, я каким-нибудь косвенным, отводящим, уводящим в подробности болезни и от любимой вопросом, с какой-то неправдоподобной, противоестественной для меня хитростью и удачливостью отводила (грозу счастья). Так я, совсем маленькая, молила Бога в сочельник утром, чтобы вечером еще не было елки, которой я так безумно ждала, которой жила. Так я, старше, с первых слов, уверткой или шуткой, пресекала любовное признание, конца которого, случалось, потом уже никогда не слыхала.
Что тянуло эту юную покойницу из тайного далека, с Новодевичьего в Шварцвальд (издальше!) ко мне, маленькой девочке, ей так мало знакомой? Ибо теперь вижу, что моя любовь была ее воля, что она ко мне шла, за мной ходила по меховым горам Чернолесья, она тихонечко и настойчиво зазывала меня в пену местной Ниагары – маленькой, холодной, глубокой и бурной речки, обрывающейся, как жизнь. Она заставляла меня молчать о ней – всем, особенно матери. Она глядела на меня из каждого миловидного жарового женского лица с санаторского кресла. Она, пользуясь моей близорукостью, заставила меня влюбиться в одну такую молодую больную, сменой сходства и несходства, очарования и разочарования, грубо говоря: неизбежностью контраста в свою пользу только пуще предав – себе. Влюбленность, которую я при своей тогдашней и всегдашней честности: бесстрашии осознания и названия, ни секунды не ощутила изменой: только подменой – и какой болевой!
Больше скажу: молодая покойница точно передала мне весь свой неизрасходованный румянец, ибо как только кто-нибудь: «Бедная Надя!» – или мать, глядя на свою сотоварку (ту самую!): «Боюсь, что она будет умирать, как Надя», – я, как разогнувшаяся пружина, не вскочив со стула, а выскочив из себя, уже неслась «за книгой» или «за палкой», зная, что через еще-секунду уж не смогу, никакой силой, никакой волей сдержать румянца: пожара! Любовь слепа? Но как люди на нее слепы! Так, даже мать никогда не разгадала моей тайны, – на лбу написанной! – озабоченно говоря мне по возвращении: «Какие у тебя резкие движения! На полуслове... Так ведь испугать можно. Книга... Палка... Ведь не горит!» Нет, горит.
...Почему не Сережу (любила)? Покаянную любовь моего раннего детства? Почему с его смертью примирилась, приняла ее – как все?
А потому что Сережа сам смирился, а Надя – нет.
А потому что Сережа уже не хотел жить, а Надя – да.
А потому что Сережа совсем умер, а Надя – нет. Совсем ушел туда, со всем, что в нем было, а Надя, со всем, что в ней было, в ней било! не рассталась, совсем осталась.
И еще потому, быть может, что о Сереже уже так горевала мать, а о Наде так, как я (утверждаю это и сейчас), никто – никогда.
Милая Надя, чего тебе от меня было нужно? Стихов? Но они тогда у меня были детские, к тому же – немецкие...
Почему именно за мной ходила, передо мной вставала, – именно мной из всех тех, которые еще так недавно за тобой и вокруг?
Может быть, милая Надя, ты, оттуда сразу увидев все будущее, за мной, маленькой девочкой, ходя – ходила за своим поэтом, тем, кто воскрешает тебя ныне, без малого тридцать лет спустя?
Д.И. Иловайского я в последний раз видела, точней – слышала, накануне открытия музея Александра III, в мае 1912 года, у нас в доме, в неурочно поздний час. Не дожидаясь прислуги, живущей через двор и, наверное, уже спящей, Сережа Эфрон, за которого я только что вышла замуж, открывает. Скрип парадного, какое-то ворчание, из которого выясняются слова: «Значит, дома нет?» И, проходя в залу: «А гардероб – будет?» Молчание, затем покашливанье вопрошаемого. Вопрошающий, настойчивее: «Гардероб, говорю, будет? Под расписку, спрашиваю, сдают?» Выглянув из столовой, вижу, как Сережа, с всё еще любезной улыбкой, слегка подается от неуклонно, с бесстрастием Рока надвигающейся на него шубы, в которой (май!) узнаю Д.И. Иловайского. «А то (похлопывая себя по широченному, как у рясы, рукаву) она у меня небось бобровая, как бы (с желчной иронией) по случаю торжества-то – не лишиться! Тоже мода пошла, перекинет через ручку и «будьте покойны-с», с одной улыбкой-с, без всякой расписки-с... А кто его знает – служитель или грабитель переодетый? На лбу ведь не написано, а если и написано – так ложь. Нет, нумер нужен, нумер!» Спрятавшись за самовар, гляжу дальше. Пауза и, прищурившись: «А вас я что-то не припомню... В прихожей-то было за Андрюшу принял, а теперь вижу – нет: еще выше и худощавее (и, неодобрительно) и годами будто еще моложе...» – «Я муж зятя... то есть зять дочери – Марины... Я хотел сказать: Ивана Владимировича. Муж». Иловайский, недоверчиво: «Муж? – и уже бесстрастно: – А-а-а... Так передайте, молодой человек, Ивану Владимировичу, что приходил его тесть от Старого Пимена, про гардероб узнавал».
И, перепутав родного внука с чужим зятем – уже сказанием! Уже привидением! – метя бобровой шубой дубовые половицы, темнеющей залой, за эти несколько минут совсем стемневшей – как снеговое поле, снеговым полем своей волчьей доли, скрипящим парадным, деревянными мостками, лайнувшей калиткой, мимо первых фонарей – последней зари – домой, к своему патрону – Пимену, к патрону всех летописцев – Пимену, к Старому Пимену, что на Малой Димитровке, к Малому Димитрию, к Димитрию Убиенному – в свой бездетный, смертный, мертвый дом.
Большое тире. Тире длиною в шесть лет: всей войны и начала Революции. Тире, заполненное для Иловайского потерей всего его мира.
1918 год. Весна. Стук в дверь. Редкий гость. Брат Андрей, о котором никогда ничего не знаю, ни жизни, ни окружения, ни горестей, ни радостей, ни даже адреса, ничего, кроме того, что он нас, полуродных сестер, любит несравненно больше, чем родную, и если кого-нибудь на свете любит – то нас.
«Марина! У тебя еще живет этот жилец – как его?» – «Икс? Живет». – «Так ты уж, пожалуйста, устрой, чтобы выпустили деда». – «Как – выпустили?» – «Ну, да, сидит в Чека уже неделю». – «За что?» – «За убеждения. Пришли и арестовали. Совершенно неприлично». – «А сколько ему сейчас лет?» – «А Бог его... Около ста, должно быть». – «Ну-у?» – «Во всяком случае девяносто». – «Хорошо, я попытаюсь».
Поздно вечером сторожу у тогда еще звонившего телефона своего квартиранта Икса. Топ-топ-топ-топ – по лестнице. Открываю. «Генрих Бернардович!» – «Да?» – «Нечего сказать, хороши ваши большевики, – столетних стариков арестовывают!» – «Каких еще стариков?» – «Моего деда Иловайского». – «Иловайский – ваш дед??» – «Да». – «Историк?» – «Ну да, конечно». – Но я думал, что он давно умер». – «Совершенно нет». – Но сколько же ему лет?» – «Сто». – «Что?» Я, сбавляя: «Девяносто восемь, честное слово, он еще помнит Пушкина». – «Пом-нит Пуш-кина?! – И вдруг, заливаясь судорожным, истерическим смехом: – Но эт-то же – анекдот... Чтобы я... я... историка Иловайского!! Ведь я же по его учебникам учился, единицы получал...» – «Он не виноват. Но вы понимаете, что это неприлично, что смешно как-то – то же самое, что арестовать какого-нибудь бородинского ветерана». – «Да – (быстро и глубоко задумывается) – это-то – действительно... Позвольте, я сейчас позвоню... – Из деликатности отхожу и уже на лестнице слышу имя Дзержинского, единственного друга моего Икса. – Товарищ... недоразумение... Иловайского... да, да, тот самый... представьте себе, еще жив...»