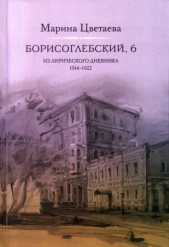Проза (сборник)

Проза (сборник) читать книгу онлайн
«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но дело не во мне, дело в тоне эпохи, диктующем одаренной и благородной девушке такие стихи в альбом на редкость одаренной и одухотворенной сестре.
Не сужу. Невинно. То же самое, что «Раз в крещенский вечерок», и ведь главное – те же девушки! («Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Агафон».) Вечный сторожевой окрик одной сестры – другой (одной доверчивей другой!) – «Не верь: обманет!» Не вырождение девичества (бессмертного), а вырождение целой культуры, открывшейся Пушкиным и докатившейся до последнего листка девического дворянского альбома, на котором – уж не знаю, чьей рукой:
Однажды, тогда же – мне было семь лет – Сережа, мне: «Так ты мне свои стихи перепишешь?» – «Ну, конечно, черт возьми!» – «Но зачем же „черт возьми?“ – с таким недоумением, даже страданием, несмотря на чуть выросшую улыбку, что я, сразу ударившись подбородком себе в грудь (почему не ему?), разом всадила все четыре передние „лопаты“ в нижнюю губу. Странное чувство и не приписываемое себе, тогдашней, чувство, мне перед Сережей (семь лет и семнадцать) всегда было стыдно за себя – такую. Какую? Да здоровую (он тогда еще не болел), резкую, дерзкую, с черными ногтями. Я, как негр, стыдилась своей непоправимой черноты. Помню, какого труда мне стоило войти в залу, где на зеленом диване между зелеными филодендронами сидел он в своей небесного цвета тужурке с другими студентами, но не такими же, тоже в тужурках, но не таких. Какого сведения челюстей – пройти через всю эту паркетную пустыню и подать ему руку. „А стихи всё пишешь? Пиши, пиши!“ Мне от этого голоса сразу хотелось плакать. Плакать и каяться, что я такая злая, грубая, опять дала в зубы гувернантке, которая меня дразнила, жестянкой от зубного порошка, а вот он – такой добрый со мной, такой нежный... И чем нежнее и добрее он меня расспрашивал, может быть, что-то чуя и стараясь рассмешить: „Ну, улыбнись, улыбнись, улыбнись же наконец, неулыба!“ – тем я ниже клонила голову с накипающими слезами и – последним голосом: „Я лучше принесу тетрадь, вы сами прочтете...“ Это, кажется, единственный человек за все мое младенчество, который над моими стихами не смеялся (мать – сердилась), меня ими, как красной тряпкой быка, не вводил в соблазн гнева... Может быть – он сам писал стихи? Прозу – знаю. Двенадцати лет (рассказ моей матери, очевидицы) он по настоянию родителей стал читать на какой-то их „пятнице“ свою пьесу „Мать и сын“. Действующие лица: „Мать – 20 лет, сын – 16 лет“. Взрыв хохота, и автор, не поняв причины, но позор поняв, сразу и невозвратно убежал в свою детскую, откуда его не могла извлечь даже мать.
А мать над ним – все могла. Больше скажу: он не мог иначе, чем мать. Не мог иного, чем мать. Думаю, они мало друг с другом говорили, больше – глядели. Ибо слова всегда опасны. Словами он бы должен был ей сказать: «Мама, зачем ты дергаешь Надю? Мама, зачем ты омрачаешь нашу молодость? Мама, мы скоро умрем». Глазами же он ей говорил одно: «Люблю. Твой».
Эта любовь у либеральной молодежи называлась «консерватизмом», равно как собственный инстинкт самосохранения – «политической оппозицией». Странные бывают слова (и чаще – иностранные!) для самых простых вещей. Но пока до простоты додумаешься...
Милый Сережа, четверть с лишним века спустя примите мою благодарность за ту большеголовую стриженую, некрасивую, никому не нравящуюся девочку, у которой вы так бережно брали тетрадь из рук. Этим жестом вы мне ее – дали.
Спасибо и за старый мир, ныне всеми, всеми преданный, больше всего же, хотя и невинно, теми, кто его хотят воскресить. Вы были его чистейшее зеркало.
Спасибо за верность дому – даже такому.
Спасибо за мать.
После Нерви брат и сестра стали умирать.
Не сразу. К нам за границу доходили слухи, что увезены они отцом в Спасское. Что кормит он их там овсянкой и заставляет спать с открытым окном. «Что ж (мать над письмом), и овсянка и окно вещи полезные, но вот – сырость... Ведь Спасское стоит на болоте... И не проще ли в Крым?» Но в Крым (предполагаемые доводы Старого Пимена) одних нельзя: опять в Надю все сразу влюбятся, и вдруг примерного Сережу окрутит какая-нибудь дрянь? А матери с ними ехать – значит, бросать всё. Всё, значит – дом. Дом, значит – сундуки. На кого оставить? На маленькую немку-экономку? Но она сама цыпленок, где ей? Только и умеет, что испуганными голубыми глазами не мигая глядеть на всех и особенно на Сережу, который никогда и мухи не обидел... Как ей совладать с вороватой горничной, лукавым дворником, пьяницей-кухаркой и всеми их земляками и кумовьями, – со всей этой грабиловкой? Кроме того, в Крым, значит – на две семьи. И кто же будет разливать чай на ученых пятницах у Д.И.? Оля? Да к самой Оле надо приставить гувернантку, ибо из троих она – пущая, самая тайная и упрямая, опять у нее обнаружила борный вазелин для ращения бровей и ресниц – и не только упрямая, но и расточительная, ибо тот вазелин – у меня под ключом, значит, этот – новый. А все эти вазелины и ресницы, чтобы нравиться этому – не дай Бог! – как только его в дом пустили? – Р – ну. Какой уж тут Крым?
И веером, в ответ на эти соображения, Д.И., лаконически:
– Везу их в Спасское. Свежий воздух и овес – это главное.
Сережа умер первый. Про смерть свою он знал. Этот невинный, в земных делах несведущий ангелочек в этом последнем земном деле и в первом неземном оказался именно ангелом: знающим. Сколько я их видела, за всю болезнь моей матери, по Бориважам, по Квисисанам (почти уже – по часовням!), и на Ривьере, и в Шварцвальде, и в Ялте – врачей, выхаркивающих последний лоскут легкого с сияющей уверенностью, что это «маленький бронхитик», отцов семейств, не догадывающихся проститься с детьми, юнцов, расписывающих вечера на двадцать лет вперед, волкоподобных старцев, заедающих саму возможность возможности – сырым мясом (женщины, даже самые молодые, неизменно, знали) – тяжелобольных, с опытом чужой болезни, чужих ежедневных, с теми же приметами смертей, вплоть до № такого-то, куда уносят смертника, или, как в Нерви, в дом напротив, по винтовой железной лестнице, под гробовые своды сестринского убора, – а вот этот, без всякого опыта умирания, ибо умирал он от этой болезни в семье – первый и никогда в санатории не был, – не обманувшись ни посулом Крыма, ни собственным румянцем, ни особой легкостью в теле, так легко принимаемой за силу: смертью в жилах, принимаемой за жизнь, этот сразу понял – и – принял. Все его земные помыслы были только о Наде (о которой он тоже знал) – увезти поскорей Надю, спасти Надю... Все иные мысли – в Боге.
А мать? Мать была в нем, он умирал с нею внутри, как с, внутри, собственным сердцем.
Надя, уже не встававшая, на вынос брата смотрела из высокого окна залы, в которой теперь жила. Вчера – на товарища брата, который нравится и опять придет, нынче – на брата, которого любила и который уже никогда не придет. За которым – сама пойдет. Поедет – вот тем же снегом, такими же еловыми веточками, на тех же плечах... Вот в последний раз сверху, так сверху, так назвничь, как никогда еще, по-новому – внятно, по-высокому – далёко, и внятно, и тщетно, и близко, и далёко – как на ладони, отставленной за версту! – как собственное лицо на дне колодца – в последний раз лицо Сережи, от подпирающего лазурного ворота как бы все еще храбрящееся...
Усмешка... Ресницы...
Рядом с кареокой румяной смертницей, обняв подругу за плечо, поддерживая и даже удерживая – светловолосая, с глазами, плачущими точно своим же цветом, с возрожденской головкой, точно впервые ознакомившейся с собственным весом, Вера Муромцева, ищущая слов и никаких не находящая, кроме слез. Внизу, на снегу, черная одинокая фигурка: та самая немочка-экономочка, так боявшаяся взглянуть на Сережу, а когда глядевшая – то с чем-то пущим страха. Достоять обедни ей не дали и на кладбище не пустили – надо прибрать дом к возвращению – и вот торопливо прибирает, только не дом, а двор – от тех самых веток (чтобы не заметил дворник!). В руках целый букет – черных, мохнатых, так похожих на те, в Спасском. Эти ветки она будет хранить до дня своей смерти, для дна своего гроба, на дне своего экономкиного чемодана, когда осыплются иглы, соберет их в мешочек, мешочек завяжет лентой с шоколадной коробки, поднесенной ей иловайской молодежью (значит, и им) в прошлый сочельник. Сочельник... Ельник...