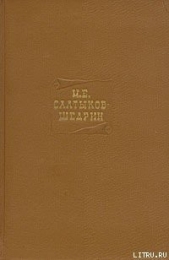Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849
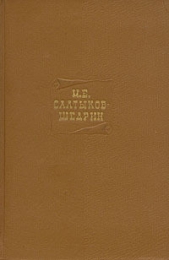
Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В первый том входят произведения Салтыкова 1840–1849 годов, открывающие творческую и политическую биографию писателя. От подражательной романтики юношеских стихотворений к реализму и демократической настроенности «Запутанного дела» и «Брусина» — таков путь литературно-общественного развития молодого Салтыкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наконец пора было и к берегу. Отец пошел с Марьей Ивановной домой, а мы с детьми в сад, и когда братья были далеко от нас, Нагибин подошел ко мне.
— Вы позволите мне сказать вам несколько слов, Татьяна Игнатьевна? — спросил он.
— Сколько угодно, Андрей Павлыч; сядемте на скамейку.
Но он молчал и, казалось, обдумывал, как начать разговор.
— Что же вы задумались, Андрей Павлыч? — сказала я, — вы хотели что-то передать мне?
— Да, я хотел вам сказать… да, право, не умею, как выразить…
— Стало быть, это очень дурно, друг мой, что вы не решаетесь высказать мне мысль свою?
— О нет, тут нет ничего дурного! да вы все так принимаете к сердцу… Право, я не знаю…
— Боже мой, что это за мука! Да скажете ли вы, наконец, что́ вас так сильно занимает?
— Меня занимает… Послушайте, Татьяна Игнатьевна, вы должны одобрить мое решение… оно необходимо как для вашего, так и для моего спокойствия…
— Какое же это решение?
— Вот видите ли; сегодня я много думал, отчего вы так грустны с некоторого времени, отчего вы с каждым днем увядаете…
— Ну, так что же, Андрей Павлыч?
— Да ведь это я вас так измучил, я с своим несносным бессилием; это от меня вы так страдаете, доброе дитя мое!.. Еще если б я один — я перенес бы все; но видеть, как вы каждую минуту умираете, как вы томитесь, — эта мука выше сил моих!
— Так вы решились… ехать отсюда?..
— Могу ли же я оставаться, милая Таня?
— И вы думаете, что ваш отъезд поможет моему горю, Андрей Павлыч?
— Кто знает? может быть… О, это все мое желание, все моление мое! Это дало бы спокойствие моему сердцу… Время все изглаживает, время великий врач всех недугов, особливо сердечных…
— Вы думаете, Андрей Павлыч? вы думаете, что и вдали от вас мое сердце не будет всегда и везде с вами?
— Кто знает?
— О нет, я знаю, Андрей Павлыч. Видите ли, вы никогда не любили в жизни — вы и не знаете, и не мудрено, что вам кажется, будто время все изглаживает, все исцеляет… А если оно, вместо того чтоб заживить мои раны, только растравит их?
Я взглянула ему в лицо и сама ужаснулась его мертвенной бледности; казалось, несносная тяжесть удручала и жала ему грудь и не позволяла вздохнуть свободно.
— Что с вами, Андрей Павлыч? — сказала я, взяв его га руку, — зачем же так сильно принимать все к сердцу?
— Что же делать, на что же решиться мне? — прошептал он едва слышно. — Боже мой, боже мой! где же конец, где же граница этому страданию?
— Перестаньте же, Андрей Павлыч; вы видите, что меня мучит ваше страданье; бросимте говорить об этом; пусть будет, что́ будет, — зачем загадывать вперед… Вы что-то больны сегодня, друг мой.
— Да, болен я; но в том-то и дело, что я всегда так болен, добрая, милая Таня; в том-то и дело, что нет конца этой мучительной болезни, что я сам чувствую, как сводит она меня мало-помалу в могилу… Хоть бы поскорее, хоть бы разом покончила она со мною!
— А я-то, а обо мне-то и забыли вы, Андрей Павлыч? я-то с кем же останусь? и вам не жаль меня будет? не жаль?.. а, Андрей Павлыч? что же вы молчите?
— Что же мне отвечать вам?.. Жаль? мало ли чего мне жаль, Таня, мало ли чего бы я хотел! Да я такой маленький человек, что не должен желать чего-нибудь безнаказанно! Сожалеть? пожалуй, сожалей, да что будет в том проку, подвинемся ли мы оба хоть на шаг от этого? Ах, зачем свела меня с вами судьба! шли бы мы каждый своею дорогой, дотянули бы как-нибудь до смерти!
— Ах, боже мой! к чему же эти мысли, друг мой? Зачем мы встретились? кто ж это знает? и зачем вам непременно нужно объяснить себе это? Мы встретились — это была случайность; мы полюбили друг друга — это было необходимым последствием нашей встречи! Зачем же везде хотите вы видеть что-то особенное, какое-то злобное преследование судьбы? зачем все эти вопросы, Андрей Павлыч?
— Зачем? Спросите лучше, зачем всякое явление раздвояется в моих глазах; зачем ни на один вопрос не может рассудок мой отвечать откровенно: да или нет; зачем в одно и то же время рождается в моей душе тысяча оправданий и тысяча опровержений? Ваше молодое сердце не может постичь, сколько жгучего страдания в этой странной жизни, где не на чем успокоиться рассудку, где беспрестанно думаешь упираться ногами в землю, и беспрестанно колеблется и уходит она из-под ног!
Он задумался; голова его медленно опустилась на грудь; на бледном лице выразилась тихая, безмолвная горесть; как будто вдруг сделалось спокойно и светло в душе его, как будто чувствовалось уж в этом грустном взоре будущее примирение.
— Ужасны не самые лишения, — сказал он дрожащим голосом, — не сама бесцветность и бедность жизни гложут душу — ужасно сознание возможности счастия, сознание всей обаятельной сладости удовлетворенной страсти, которое, на горе бедному парию, является воображению его в самые трудные минуты его жизни! Видеть счастье во всей чудной полноте его, осязать руками эту таинственную чашу блаженства, предмет столь долгих и мучительных помышлений человека, и в то же время сознавать, что никогда губы его не прикоснутся к ней, — вот пред чем цепенеет мысль человека, вот где истинное бедствие его положения!
И долго удерживаемые слезы ручьями полились из глаз его.
— Сознавать разумность и необходимость любви, — сказал он рыдая, — и сознавать невозможность и неразумность ее! любить и не любить! Да где же тут смысл, кто поймет это?
И я не могла удержаться, и я с рыданием упала на грудь его и целовала ее.
— О, плачьте, плачьте, друг мой! — говорила я, — и пусть в этих слезах все дотла выплачется безотвязное горе, которое тяжелым камнем легло на душу вашу, и пусть никогда не возвратится эта черная туча сомнения, омрачившая светлый день нашей жизни!
И он, казалось, повеселел и помолодел, улыбаясь сквозь слезы, глядел на меня и нежно прижимал меня к груди своей.
— Ты-то что плачешь, Таня? — говорил он, — ты-то об чем горюешь, милое дитя мое? тебя-то за что заставляю я страдать, добрый ангел мой?
— О нет, я не страдаю, я весела, мне так хорошо, так спокойно теперь… у тебя на груди… Слышишь, как бьется твое сердце, как радо оно этим теплым, живительным слезам!
— Да, мне легко, мне свободно в эту минуту, милая Таня; все во мне любовь и упоение, и нет следа тяжелым сомнениям, которые еще за минуту висели надо мною… Повтори же мне, друг мой, не правда ли, ведь его уж нет, он не стоит уж между нами, этот страшный призрак, который мешал нам жить, мешал нам любить друг друга? И мы можем свободно дышать, можем посмеяться над этим старым пугалом, потому что мы сильны своею любовью, и нет в мире препятствия, которого бы не сокрушили мы? Так ли, дитя мое, радость моя, так ли я рассуждаю теперь? хорошо ли ведет себя воспитанник твой, стоит ли он поцелуя своей доброй наставницы?
И он привлек меня к себе и посадил на колени.
— Ведь это все вздор, что я прежде говорил тебе? ведь неправда, будто любовь невозможна, будто она неразумна?.. Ах, боже мой! да, стало быть, она возможна, стало быть, разумна, коли она есть, коли ею живет и трепещет все существо мое? Так ли, добрая Таня?
Я сама удивилась, как быстро и как совершенно произошла в нем такая перемена, как внезапно всякое слово его приняло жизнь и задышало страстью.
— Таня, а Таня, — сказал он, дрожа от волнения, — зачем эта косынка на груди твоей, зачем она мешает?.. Сними ее, брось ее дальше, чтоб не было ничего между тобою и мною… Ну, полно же, полно, дитя, — продолжал он, удерживая меня, — ведь это я так… это пройдет… ты не сердишься на меня, друг мой?
И он обхватил обеими руками мою голову и долго вглядывался в глаза мои, как будто хотел высмотреть в них самую затаенную мысль.
— А знаешь ли, зачем я так долго вглядываюсь в глаза твои, Таня? Я смотрю, как отражается в них это чудное летнее небо, которое так роскошно раскинулось над нами… Вон блеснула и задрожала в них далекая звездочка. К кому-то послана ты, чью-то судьбу хранишь ты?.. Ах, вон и упала она… и нет больше звездочки! А слыхала ли ты? говорят, будто в минуту падения звезды непременно кто-нибудь умирает? Ведь не правда это, Таня, ведь это всё глупые люди выдумали: в эту минуту все живут, все счастливы? так ли, Таня? так ли, дитя мое?