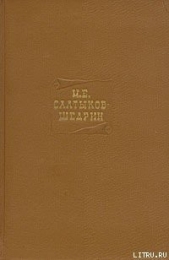Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849
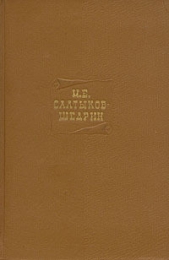
Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В первый том входят произведения Салтыкова 1840–1849 годов, открывающие творческую и политическую биографию писателя. От подражательной романтики юношеских стихотворений к реализму и демократической настроенности «Запутанного дела» и «Брусина» — таков путь литературно-общественного развития молодого Салтыкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Видите ли же вы, что обо всем этом я уже рассуждал, и никто более меня не желал бы переменить это тягостное состояние? Что нужды в том; что я определил себя и знаю, что я такое, куда иду и на какой конец, когда я несчастлив? А впрочем, покоримся необходимости, да и кто знает: может быть, частное-то мое назначение в жизни в том и состоит, чтоб определить ее и приготовить возможность пользоваться ею… для других?
От того же к тому же
…Все это так для меня ново, так меня поражает, что решительно я теряюсь, не знаю, что мне предпринять. После известного разговора меня несколько времени оставляли еще в покое, и я уже думал, что все это так и кончится. Действительно, она казалась совершенно покойною, по-прежнему говорила со мною, по-прежнему ходили мы вместе в саду — и никогда ни слова о происшедшем между нами, как будто бы ничего и не было, как будто бы все умерло.
Признаюсь вам, меня даже печалило и досадовало несколько такое равнодушие: все-таки было мне жаль этой одной минуты, когда все мое существо как будто трепетало и жило новою жизнью, и мне досадно было, что так мало оставила она следов по себе. Коли хотите, такая жалоба с моей стороны и неестественна, и непоследовательна, и несправедлива; да что ж прикажете делать? видно, нельзя совсем перестать быть человеком, видно, нельзя всегда подводить под готовую мерку все свои движения. Я очень хорошо понимаю, что недостойно и неестественно привязываться к воспоминанию, что нужно жить только в настоящем, что человек чувствует потребность забыться в своем прошедшем только или вследствие отсутствия жизненности в самой натуре его, или вследствие бедности его настоящего; знаю я также, что в этом мгновенном опьянении моих чувств было более томления, нежели радости и света, что я сам желал выйти как можно скорее из этого неопределенного положения и, следовательно, должен был бы скорее радоваться, нежели досадовать на равнодушие Тани. Сознаю я все это, но в том-то и горечь моего положения, что я слаб и не могу победить себя.
Не спорю, что, если это равнодушие продлится, я вовсе перестану, может быть, думать об нем; но в жизни нашей столько случайностей, малейшее обстоятельство подает столько поводов к взрыву затаившейся и полуугасшей страсти, что невозможно предвидеть их всех, невозможно приготовить себя к ним.
Так точно теперь и со мной.
На днях как-то мы сидели вдвоем и читали зандовского «Компаньйона» *. Помните ли вы там сцену признания в любви Маркизы и Амори? помните ли вы обстановку этой сцены, описание ночи, местности и всех малейших подробностей признания? не правда ли, что в нашем взаимном положении не могло быть выбора романа более пагубного, что в этой сцене есть нечто в высшей степени опьяняющее, что чувствуешь, ка́к любовь дошла тут до nec plus ultra [49] раздражения, что она давит, тяготит, что ей нужно, непременно нужно высказаться, выразиться наружу… И я видел, как жадно прислушивалась Таня к моему чтению, как поднималась и опускалась грудь ее, как все более и более приближалась она ко мне…
Я чувствовал и сознавал все это, — а все-таки читал, тогда как мне следовало бежать… Знаете ли, я был тогда очень жалок, я действовал по какому-то безотчетному инстинкту, даже не понимал более, что́ читал, и когда она положила руку свою ко мне на плечо, когда почувствовал я на щеках своих жаркое дыхание ее, вся кровь, казалось, хлынула мне в голову, слова останавливались на губах; наконец и самая книга выпала из рук.
И тогда началась между нами одна из тех сцен, которые так легко и вместе так трудно описывать, потому что в них нет ни слов, ни движения; весь смысл их заключается именно в этом упорном безмолвии, когда как будто и язык, и все существо человека скованы — под влиянием тяжелого очарования. Такое положение минутно, потому что тягостно, и человек сам, по невольному, бессознательному инстинкту, делает усилие, чтоб выйти из него, но тем неуловимее ощущения, которые овладевают душой в эту страшную минуту, тем труднее дать себе в них отчет. Когда я вышел из этого оцепенения, голова Тани лежала на плече моем, на губах ее играла едва заметная улыбка; но никогда, нигде не встречал я столько счастия, столько безмятежной и сладкой уверенности, сколько выражалось во всякой фибре этого прекрасного лица. Я был действительно увлечен, и когда она спросила, отчего я перестал читать, все, что накипело в груди моей, все, что было исподволь подготовлено во мне этою сценою, вылилось наружу.
— Зачем читать? — отвечал я, с трудом скрывая свое волнение, — зачем читать? разве и без того непонятно?.. разве вы не видите, что я страдаю, что я болен? разве не чувствуете вы, что все уже сказано и нечего более объяснять?..
— Ну, видишь ли, — отвечала она, не поднимая своей головы, — ведь я знала, что ты меня любишь; я была уверена в этом… и напрасно будешь ты мне говорить, что любовь невозможна для тебя: как будто ей нужно чье-нибудь позволение, как будто она в нас не против нас!..
Я молчал, потому что в эту минуту всякое слово ее было для меня истиной.
— Послушай, надо исправиться… нужно более жизни, менее рассудка. Зачем же жить, когда нет любви? Что́ же останется человеку, если отнять у него любовь? на чем отдохнуть, на чем успокоиться от ига жизни, как не на любви, этой поэзии жизни? Не чувствуешь ли ты холода и пустоты своего одинокого, эгоистического существования? не видишь ли ты смерти в самой жизни, когда не согрета она любовью?.. О нет, ты любишь, ты любишь меня… Я знаю… правда?
И она то по-прежнему играла моими волосами и прижималась головою к плечу моему, то вдруг, поднимала мою голову, смотрела мне прямо в глаза и говорила своим мягким, ласкающим голосом: «Без любви нет счастия, без любви холодно, грустно…»
И мне казалось в ту минуту холодно и грустно — без любви, и я в ту минуту помолодел, чувствовал себя здоровым и веселым, и слезы невольно навертывались на глазах, и я целовал ее руки, целовал ее волосы, смеялся и плакал, как ребенок; в груди моей что-то как будто порвалось, как будто наводнило радостью все мое существо.
— О, будем счастливы, будем любить! — говорил я, полный восторга, — любовь смысл жизни, а жизнь благо!.. Будем же счастливы, и пусть пройдет вся жизнь наша, как одни миг — миг вечного самозабвения и вечной любви!..
— Да! будем счастливы, будем любить, — повторяла за мною Таня, прижимаясь к груди моей.
Это были сладкие минуты моей жизни, и ничто тяжелое не помрачало моего существования! И теперь скажу я, зачем не вечно остается человек младенцем! зачем приходит рассудок, чтоб отравить жизнь его, чтоб наругаться над лучшим мгновением ее! И не оставит ничего неприкосновенным этот безжалостный судия, до всего коснется, все разоблачит неумолимая рука его, ни одна струна, ни один мускул души не укроется перед трезвым взором его!.. И устремится человек с растерзанным сердцем и горькими-горькими слезами на очах, чтоб уловить эти легкие, мимолетные видения, так светло очаровавшие душу его… и не уловит их: исчезли, исчезли навеки!..
Все это очень грустно, очень тяжело, тем более тяжело, что я сам понимаю всю уродливость своего положения, тем более невыносимо, что я претендую быть всегда логичным и чувствую, что ничтожнейшее обстоятельство может сбить меня с толку. Я вижу, что нужно мне оставить этот дом, что мне нужно бежать отсюда, и, между тем, рядом с этим решением, предстает передо мною другой, еще более для меня страшный вопрос: не будет ли такое решение открытым признанием моей слабости, прямым обнаружением несостоятельности столькими годами горького опыта добытых убеждений. И между этими двумя крайностями я останавливаюсь в нерешимости, не знаю, что предпринять, не делаю ничего ни за, ни против.
Вы скажете мне, может быть, что тут есть весьма простое средство, а именно: остаться и следовать побуждению природы… да в том-то и дело все, что этого-то побуждения определить я себе не могу, что, с одной стороны, несомненно для меня, что я люблю Таню, а с другой — не менее верно и то, что любовь для меня поступает в категорию невозможностей, что она захиреет при самом начале, потому что нечем мне поддержать, нечем воспитать ее. Я страдаю глубоко, не видя выхода из этого противоречия, и это сознание так парализировало мои силы, что я остаюсь холодным зрителем своего собственного несчастия. Вы скажете опять, что я сам виновник своего страдания, что я сознательно и хладнокровно устроиваю его, что я артистически, с любовию созидаю себе препятствия. Но вы будете не правы, мой милый, потому что выбор того или другого решения вовсе не от меня зависит. Если б я и общество, среди которого я живу, составляли одно нераздельное, необходимое для взаимного уразумения целое, тогда, конечно, не стал бы я рассуждать, истинно ли такое-то мое побуждение и какие будут от него последствия: я знал бы наверное, что оно истинно и что последствия, каковы бы они ни были, могут принести мне только вящее благосостояние и пользу. Но теперь я и действительность — два понятия совершенно различные и взаимно друг друга уничтожающие; и если я желаю, то могу только ценою крови, ценою борьбы оправдать свое желание. Что нас убивает — это недостаток исхода нашему эгоизму, это то, что всякий шаг наш есть уже борьба, что вся жизнь наша направлена необходимостью на такие предметы, к которым мы не чувствуем ни привязанности, ни склонности. Поэтому всякий труд сделался для нас тягостью невыносимою, работою египетскою, и потому куда ни обернетесь вы, везде люди действуют как бы нехотя, все движения их запечатлены каким-то вялым равнодушием, везде долг, везде принуждение, везде скука и ложь… Пора нам, наконец, оправдать себя в этом уродстве, пора сознать, что не мы виновники своего несчастия, что так называемая свобода есть просто произведение нашей праздной фантазии, самообольщение горделивого духа нашего, что вся свобода наша состоит в безмолвном повиновении царящему над всем сущим закону необходимости.