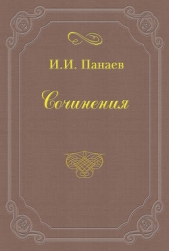Опыт о хлыщах

Опыт о хлыщах читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Летищев открывал для меня новый мир, и я слушал его с любопытством.
— Да что, — продолжал Летищев все с большим одушевлением, — Красносельский молод; нас, у которых кровь кипит, завлечь, mon cher, немудрено; а он завербовал недавно в театралы семидесятилетнего старца, у которого дети уже бреют бороды лет десять или двенадцать!.. Вот какие чудеса творит Арбатов!.. У Прохоровой был вечер. Весь балет там был и все наши. Арбатов все обдумал заранее. Ему давно хотелось устроить Капылову. Она уж не первой молодости и собой-то не очень; но тело у нее чудесное и сложено отлично. Она так пропадала в одиночестве и бедности, а девица славная и добрая; все наши ее ужасно любят: и Катя, и Пряхина, и Натарская, и Каростицкая, — все, все… Арбатов давно ей говорил:
"Дайте мне срок, несравненная моя Наталья Ивановна, — и, знаешь, рукой ее этак по талии, — уж я пристрою вас, матушка, будьте покойны"; да и намекнул ей на старичка, а старичок богат и скуп, как черт… "Это, говорит, ничего, мы сумеем порастрясти его карманы". Он и привез его на вечер к Прохоровой. Капылова разоделась в пух и прах и давай стрелять в старичка; а Арбатов толкает его и говорит: "Смотрите, смотрите, Петр Иваныч, глаз с вас не спускает: победа, да еще какая! Поздравляю вас, искренно поздравляю! Первая по сложению в балете".
Старичок поднес, дрожа, лорнет к глазам и начал смотреть на нее. Глядь, через час уж он танцует с нею мазурку, со всеми старинными затеями: с припрыжкой, с усами; вертит ее, становится перед ней на колени… просто умора. Мы надрывались со смеху. С тех пор, братец, не пропускает ни одного балета, сошелся со всеми нами на ты, туда же телеграфические знаки делает, несмотря на то, что руки дрожат и все в морщинах, точно сплоены; в венгерке ездит верхом мимо ее окон, пудами посылает ей конфекты и, в довершение всего, сочиняет к ней стихи. Я помню первые три стишка:
Дальше не помню, а недурно! Он мерзнет с нами у театрального подъезда, пьет с нами. Надобно было видеть, когда его посвящали в театралы, когда его в первый раз привезли на нашу главную квартиру. Арбатов ввел его с особенною торжественностью, в сопровождении всех нас, в ту комнату, где хранятся все наши атрибуты. У нас, братец, все это устроено чудо как! В эту комнату никто не входит, кроме посвященных или посвящаемых. Там, на возвышении, лежит шлем из "Восстания в Серале" и башмак Тальони, который был на ее ноге в первое представление, когда она танцевала на петербургской сцене. На столе перед возвышением ряд башмаков всех известных наших танцовщиц, книга с нашими постановлениями, в великолепном переплете, и другая книга, в которой внесены именины и рождения всех танцовщиц, имена всех бывших и настоящих театралов и все важные события, случившиеся в различные периоды театральства; по сторонам две доски на треножнике: одна — красная, на которой записаны имена всех наших, тех, которые отвечают нам; другая — черная, и на ней имена наших врагов, тех, которым мы шикаем. Старика подвели к возвышению, надели ему на голову шлем, заставили поцеловать башмак Тальони. Он поклялся быть неизменно верным всем правилам театральства, никогда не нарушать их, во всем помогать товарищам и проч., и, когда он говорил это, голос его дрожал и на глазах его показались слезы. Броницын, глядя на него, язвительно улыбался, подтрунивал над ним и называл его шутом. У Броницына, между нами, нет сердца. Я с ним чуть не поругался за это. На меня эта сцена подействовала совсем иначе: меня это тронуло. Поверишь ли, я полюбил после этого старика. Теперь его и узнать нельзя: он так изменился — о скупости и помину нет, он ведет себя молодцом, так держит себя, что чудо, и насчет подарков никому, братец, из нас не уступает. Сначала, покуда он ограничивался стишками и конфектами, все театральные подшучивали над Капыловой. "Славного, Наталья Ивановна, — говорили они ей, — подтибрили вы себе обожателя!" И ей было как-то неловко и совестно; ну, а теперь, я тебе скажу, как увидали на ней тысячный салоп, да браслеты с изумрудами и яхонтами, да ее карету, которая подкатила к подъезду после репетиции, так все прикусили язычки. И она стала смотреть не так, да и на нее стали смотреть иначе. Старик души в ней не чает. "Я, говорит, теперь только начинаю жить; я, говорит, теперь только понял, что такое любовь". Разумеется, он отчасти смешон, коли ты хочешь; но как бы то ни было, а это доказывает, что в нем есть жизнь, что в нем не совсем очерствело сердце, что он способен еще понимать изящное, и все это, однако, заметь, проблудило в нем театральство! Арбатов от него в восторге; он не нарадуется, глядя на счастье Натальи Ивановны, и нынешней зимой устроит у нее танцевальные вечера, куда будут съезжаться все балетные и, разумеется, наши, после выпуска. Мы сходимся на нашей главной квартире непременно уж раз в неделю после балета, и старичок всегда с нами: мы к нему привыкли, без него как будто чего-то недостает. На этих сходках у нас — это уж так положено — все должны только говорить о театре и о том, что касается до театра; если же кто заговорит о чем-нибудь постороннем, с того берется штраф, — и, вообрази, наш старик еще ни разу не заплатил штрафа! Он сделался одним из самых строгих блюстителей наших порядков. По-моему, так его просто нельзя не уважать!
Затем Летищев перешел к своей Кате, передавал мне слова, которые она бросала ему на лету, восторгался от ее ума, красоты, повторял, как он ее любит, и фантазировал о будущем.
Он привозил ко мне различные покупки, развертывал передо мною куски бархатов и шелковых материй, вынимал из карманов сафьянные коробки с часами, брошками и браслетами, приставая ко мне с вопросами: "Не правда ли, это хорошо?.. Не правда ли, это с большим вкусом?.. Как ты думаешь, что это стоит?.." — и прибавлял к этому, что его подарки лучше подарков Броницына и что уж у него такой характер, что он никому и ни в чем не позволит себя перещеголять.
Он объявил мне, между прочим, что Катя переезжает к своей старшей сестре; что он для того, чтобы жить с Катей в одной улице, переменяет свою квартиру; что отыскать квартиру в ее улице стоило ему величайших усилий; что он уговорил хозяина дома выжить какого-то жильца, заплатил за три скверные комнаты, которые занимал этот жилец, тысячу пятьсот рублей вперед; что он отделывает их совершенно заново; что все это обойдется ему в двадцать тысяч; что он хочет, чтобы ни у кого из театральных не было таких платьев, шляпок, браслетов и прочего, как у его Кати. При этом он прыгал, хохотал, пел, обнимал меня, целовал и жал мне руки. После этих неистовств он стихал на минуту, прохаживался по комнате и спрашивал меня:
— Ты мне друг? скажи — друг? Ты, братец, понимаешь меня? не правда ли?
Я, по обыкновению, молча кивал головой.
— От тебя я уж не могу скрывать ничего; только, бога ради, это между нами: ты единственный человек, которому я это показываю.
И он, притворяя дверь, вынимал из кармана письма к нему Кати и читал их. (Впоследствии я узнал, что вся петербургская молодежь почти наизусть знала эти письма.) — Я даже еще Арбатову не показывал этого письма, — замечал он каждый раз, — даже Арбатову! понимаешь?..
В этих письмах Торкачева очень наивно и довольно безграмотно выражала ему свою любовь; но письма, по крайней мере мне казалось тогда, были проникнуты теплотою, обнаруживавшею сквозь безграмотные и смешные фразы неподдельное чувство.
Окончив чтение, он подносил обыкновенно эти письма к моим глазам, потом складывал их, целовал и прятал в карман.
— Это драгоценности, — говорил он, — с которыми я никогда не расстанусь. Их положат в гроб со мною. Видишь ли, как она меня любит! Не правда ли, каждое слово дышит любовью?
— Да, — возражал я, — такая любовь приятна, но разорительна.