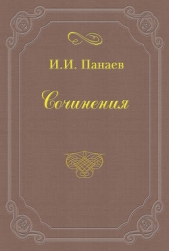Опыт о хлыщах

Опыт о хлыщах читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы слушали его разиня рты и любовались им, потому что румяный, плечистый и толстый Коля был действительно как будто создан для того, чтобы быть кирасиром.
Прошел еще год. Летищев не показывался. Он, вероятно, забыл о нас. Мы забыли о нем. Наступил день нашего выпуска, торжественный день в жизни каждого из нас. Мы проснулись рано, потому что волнение не давало нам спать. Солнце ярко сияло; из отворенных окон нашего класса, куда мы собрались в последний раз, неслось благоухание от инспекторских левкоев и резеды вместе с свежим утренним воздухом; голуби — охота одного из наших гувернеров, расхаживавшие по двору, ворковали звучнее обыкновенного; четыре липки, торчавшие перед окнами в садике, на которые мы никогда не обращали внимания, ярко и весело зеленели, облитые солнцем; все начальники смотрели на нас с особенно приветливым выражением в лице; товарищи, остававшиеся в пансионе, окружали нас с завистливым любопытством и повторяли нам: "Счастливые!" Сторож, которого мы обыкновенно посылали украдкой за завтраком в мелочную лавку, при встрече поклонился нам с таким уважением, как он кланялся только инспектору или директору, и потом все поглядывал на нас с заискивающею улыбкою, как бы ожидая чего-то. За утренним чаем мы не прикасались ни к чему, отдали свой чай и булки товарищам и разговаривали шумно, свободно и весело, не боясь замечаний и выговоров. Мысль, что через несколько часов мы будем вне этих стен, на просторе, на воле, без всякого надзора, что мы пойдем куда угодно, будем делать все, что нам вздумается, что впереди перед нами театры, гулянья, всевозможные увеселения, погружала нас в упоительное одурение… Все перед нами казалось широко, светло и бесконечно. Сердца наши бились сильно, глаза сверкали счастьем, грудь, переполненная ощущениями, волновалась. Двери парадного подъезда отворены были настежь, у подъезда стояли наши экипажи, на лестнице толпились ожидавшие нас люди.
— Господа! — закричал один из нас, — мы теперь свободные люди! Ура!.. Делай, что хочешь!
Он схватил первую попавшуюся ему под руку учебную книжку, разорвал ее пополам и бросил, потом схватил со стола чугунную чернильницу и с каким-то ожесточением швырнул ее в клумбу с инспекторскими цветами.
— Ура! — раздалось вслед за ним, и чернильницы одна за другой полетели за окна, на цветы.
— Теперь долой эти платья! — кричал другой, — прочь эту дерюгу!.. Смотрите, господа!..
И он разрывал пополам свой сюртук при всеобщих рукоплесканиях и криках.
После первой минуты этих буйств и разрушения, этого опьянения радости, осмотрясь кругом, мы увидели Скулякова. Он сидел у стола, облокотясь на руку. Лицо его, и без того всегда бледное, имело в эту минуту какой-то зеленоватый, болезненный оттенок, а его косые глаза неопределенно и грустно смотрели куда-то. Он, казалось, не видел и не слышал ничего, что делалось кругом него.
— Что ж ты сидишь? — сказал ему кто-то из нас, — вставай, братец: пора одеваться.
— Зачем? — проговорил он мрачно и вполголоса.
— Как зачем? — закричало несколько голосов, — отправляться по домам.
— У меня нет дома, — отвечал он, махнув рукой, — с богом отправляйтесь себе; мне некуда.
Шумная ватага разбежалась. Я остался с ним один; мне стало жаль его. Я знал, что Скуляков беден, что у него не было никого, кроме старухи-матери, которая жила далеко от Петербурга в своей деревеньке; что в Петербурге у него был только один знакомый, к которому он ходил по праздникам, и то изредка.
— Отчего же ты не пойдешь к своему знакомому? — спросил я. — Разве ты не можешь прожить у него до тех пор, покуда пришлют за тобой из деревни?
— Он уехал из Петербурга, — отвечал Скуляков, видимо недовольный моими вопросами.
— Послушай, Скуляков, — сказал я, — я прошу тебя, сделай одолжение, поедем ко мне. Все наши будут тебе рады… Все-таки до отъезда в деревню тебе лучше и веселее будет прожить у нас, чем оставаться здесь одному в пансионе.
И я с горячностью протянул ему руку. Скуляков пожал ее и взглянул на меня.
— Нет, спасибо, — отвечал он, — я не хочу быть никому в тягость… я не могу, брат…
Я не совсем тогда хорошо понимал значение слов: "быть в тягость", и деликатность натуры этого человека, которого звали костоломом, казалась мне только упрямством. Я стал еще сильнее уговаривать его.
— Нет, уж ты лучше и не говори, — перебил он меня, — я не поеду; я уж сказал, я останусь… Спасибо тебе. Прощай! Будь счастлив…
В его голосе, обыкновенно грубом, было в эту минуту столько мягкости и задушевности, что я не мог удержаться от слез. Мне вдруг в первый раз стало совестно, что я во все время вместе с другими товарищами, и может быть более других, приставал к нему и смеялся над ним.
— Прости меня за прошлое, — сказал я, — я виноват перед тобою.
Скуляков вдруг соскочил со скамейки, остановился на минуту в недоумении, как бы желая сказать мне что-то, — и вдруг бросился ко мне на шею, обнял меня еще раз и еще крепче пожал мне руку и прошептал:
— Ну, прощай, прощай, братец!
Выходя из класса, я обернулся назад. Скуляков закрыл лицо руками и прислонился к краю стола. Мне показалось, что он плакал…
Но через десять минут, на дороге из пансиона домой, я забыл о Скулякове и о всем на свете. Широкое и радостное чувство свободы эгоистически овладело мною; мне казалось, что горе, несчастие и прочее — все это людские выдумки и что жизнь — вечный праздник.
Я не предчувствовал, что готовилось для меня впереди, и едва удерживал мое нетерпение, завидев нашу дачу, наш старый дом, окруженный столетними деревьями… я был уверен, что скорее лошадей добегу до крыльца, и мне хотелось выскочить из коляски, чтобы броситься на шею к дедушке… Когда коляска остановилась, я едва мог дышать от волнения. У крыльца стояли маменька, приживалки, лакеи и горничные в ожидании меня — все, кроме моей няни, которой уже не было на свете, и дедушки.
— Где же дедушка? — было первое мое слово.
— Дедушка нездоров. Тише: он почивает, — отвечали мне.
Эти слова болезненно отозвались у меня в сердце, и я вошел в дом на цыпочках, понуря голову. Через час меня позвали к дедушке. Он улыбнулся мне, пожал мне руку своей ослабевшей рукой и произнес с усилием:
— Ну, поздравляю тебя, поздравляю…
Он велел мне сесть к себе на постель и стал смотреть на меня, держа меня за руку, с такою любовью и с такою грустью, что я зарыдал…
— Полно, голубчик! Бог даст, я еще поправлюсь. Не плачь, дружочек! — шептал мне дедушка, сам глотая слезы.
Но сердце мое говорило мне, что все кончено. Я вышел от дедушки и упал на диван, захлебываясь слезами.
К вечеру дедушке сделалось хуже, вероятно, от волнения; а через два дня после этого он лежал на столе. Он как будто заснул на минуту: так лицо его было спокойно и светло; ни одна черта его не была искажена страданием, и на губах его замерла улыбка — та симпатическая улыбка, с которою он всегда встречал меня…
Неужели это смерть?..
Я стоял, пораженный этим явлением, не спуская глаз с усопшего. Мне казалось невозможным, что я уже никогда не увижу его кроткого взгляда, никогда не услышу его голоса, звучавшего любовью… Смерть! когда все кругом меня кипело жизнью, светом, радостью…
Окна комнаты, в которой дедушка был положен, выходили в сад… Солнце бросало на все ослепительный блеск, совсем поглощая свет погребальных свеч. Ветка шиповника в полном цвету врывалась в одно из окон, и однообразный, тихий голос чтеца заглушался звонким пением, свистом и чиликанием птиц.
II. Молодость
Прошел год. Я уже привык к моей свободе. Она мне даже надоела немножко, потому что я не находил, какое употребление сделать из нее. Летищева, который уже был офицером, я видал довольно часто на Невском: то в коляске, то в дрожках на рысаках, то верхом, то на тротуаре под руку с другими офицерами. Он холодно кивал мне головою при встречах; я ему отвечал тем же. Мы нигде не сходились. Я услышал стороною, что мать его давно умерла, что все оставшееся после нее движимое и недвижимое имение отдано было за долг и что граф Каленский хотя был довольно внимателен к нему, но денег не давал. Несмотря на это, Летищев, служивший в самом дорогом полку, жил не хуже своих товарищей, которые получали большие деньги и имели в виду огромные состояния. Говорили, будто он поддерживает такое блестящее существование одними займами, распуская слухи, что он единственный наследник графа, и занимает 50 на 100, а иногда и капитал на капитал. До какой степени слухи эти были основательны, я не знал. Несомненно было только то, что Летищев проживает много, что он цветет, толстеет, сияет самодовольствием и отличается полною беспечностью.