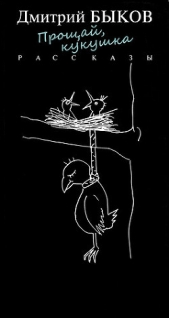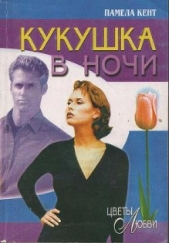Сивцев Вражек
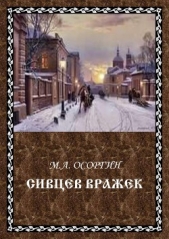
Сивцев Вражек читать книгу онлайн
Я познакомился с Осоргиным в Риме в 1908 году. Он жил за Тибром, не так далеко от Ватикана, в квартире на четвертом или шестом этаже. Изящный, худощавый блондин, нервный, много курил элегантно разваливаясь на диване, и потом вдруг взъерошит волосы на голове, станут они у него дыбом, и он делает страшное лицо.
Был он в то время итальянским корреспондентом «Русских ведомостей», московской либеральной газеты, очень серьезной. Считался политическим эмигрантом (императорского правительства), но по тем детским временам печатался свободно и в Москве, и в Петербурге («Вестник Европы» - первые его беллетристические опыты)...
...В революцию Михаил Андреевич вернулся в Москву, и в 21-м году меня уже выручил: устроил в Кооперативную Лавку Писателей на Никитской, чем избавил от службы властям и дал кусок хлеба. Но в 22-м году он, с группой писателей и философов, выслан был окончательно за границу. Стал окончательно эмигрантом - и занялся беллетристикой в гораздо большей степени, чем раньше. Собственно, здесь он и развернулся по-настоящему, как писатель. Главное свое произведение «Сивцев Вражек», роман, начал, впрочем (если не ошибаюсь), еще в Москве, но выпустил уже за границей. Роман имел большой успех. И по-русски, и на иностранных языках - переведен был в разных странах. Вышли и другие книги его тоже здесь: «Там, где был счастлив» в 1928 году в Париже, «Повесть о сестре», «Чудо на озере», «Книга о концах», «Свидетель истории» и пр.
Оказался он писателем-эмигрантом, сугубо эмигрантом: ничто из беллетристики его не проскочило за железный занавес, а тянуло его на родину, может быть, больше, чем кого-либо из наших писателей...
Б.К. ЗАЙЦЕВ (из воспоминаний).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как ни болело сердце Григория, что нет гроба настоящего, какой полагается христианину, однако перенес ящик в комнату, поставил на стол, устлал внутри одеялом и белой простыней, положил и подушку для бедной разбитой головы.
Со всем управился один. Ничем не мог пособить слепой Каштанов, сидевший в углу на стуле и внимательно слушавший движения Григория. Из соседей не заглянул никто. Про несчастье знали - но было и своих несчастий выше горла. Заходил милиционер, записал, сказал: "Пришлют доктора засвидетельствовать смерть". Но до вечера никого не прислали.
Так же неудачно вышло и со священником. Старик из церкви Иоанна Богослова отказался отпевать самоубийцу. Дали совет: отпеть на самом кладбище. Наутро побывал и на Дорогомилове, где долго рядился. За место даже и не брали, а за рытье могилы просили невесть сколько. Пришлось к кредиткам посулить серебряную добавку, так как последняя мука пошла за гроб.
Ни о дрогах, ни о простой подводе нечего было и думать. В те дни бедного человека хоронили домашними средствами: зимой на салазках, летом на ручных тележках; если есть кому - несли на руках.
У Обрубка не было друзей, кроме слепого Каштанова. Его семьей, нянькой и единственным другом был Григорий. Он один и должен был проводить покойного в последнее жилище.
Тележку дал дворник, наказав к шести часам непременно доставить обратно. В тележке возили пайковый хлеб для раздачи жильцам.
Каштанов не мог видеть, как клал Григорий белый офицерский боевой крестик поверх простыни на грудь офицера. Но как стучал молотком по гвоздям, слышал и, встав, крестился, пока последний гвоздь не был забит. Подошел, пощупал ящик, дернул щекой и заковылял к двери. Не провожать ему несчастного друга. Из слепых глаз слеза не шла.
В три часа, обвязав простыней, свернутой в жгут, Григорий без труда снес на двор квадратный ящик, в котором никто бы не признал гроб, хоть и были прибиты ножки, погрузил на тележку и двинулся на Дорогомилово.
Встречные не крестились. На страшном ящике лежала шапка Григория, а сбоку ясными буквами чернела по белому надпись: "ОСТОРОЖНО".
АХIOS
В списке скорбей прибавилась еще одна смерть - самая нужная и справедливая: смерть-освободительница.
Забившись в угол дивана, ставши совсем маленькой, Танюша смотрела в себя. На полках души ее стояли томики в черных переплетах - начатый жизненный архив.
Вот тоненькая книжка в холодном переплете, и на корешке имя: "Эрберг". О нем она знала мало и думала редко. Начата была жизнь умная, вперед надолго рассчитанная, жизнь цифр, геометрических фигур и благоразумных изречений. И вдруг - ошибка в расчете. Первым из близких знакомых ушел Эрберг, такой молодой, но уже в ранней молодости казавшийся взрослым. Такое строгое, логическое предисловие - и первые же главы оборваны.
Старенький, пухлый, много раз с любовью перелистанный, душистый лавандой томик со святым именем бабушки; оно написано на первой странице старинным и очень знакомым почерком. Милая усталая бабушка уснула любимой, исчерпав жизнь любви, заботы и мирного благословения. Догорела венчальная свеча, перевитая пожелтевшей муаровой лентой.
Книги смерти. И вот теперь смерть новая, - черная, никем не прочтенная книга. Кто решится перелистать страницы мучительных мыслей, страстных исканий, самообмана, заглушенных вспышек зависти к живому, больной борьбы разума и веры в чудо, животной жажды ухода из жизни... Страшная книга! Ее написал великий страдалец, безжизненным губам которого в ужасе и жалости Танюша дала первый свой поцелуй.
И с тем же внезапно ожившим чувством сжалась Танюша в уголке дивана. Как это было страшно! Как страшна жизнь.
Как легка была весна. В 17 лет - какое было солнце. Какими правильными рядами вставали и решались вопросы, как всесильна была наука, как гармонична музыка. Куда это исчезло, что случилось?
Почему случилось, что смерть и смерти предшествуют жизни. В начале дороги - кресты, раньше гимна радости - похоронное пенье. И что дальше?
Спросить дедушку? Но дедушка, сам старенький, - что ответит? Нельзя пугать его такими вопросами. Вася? Вася такой преданный и заботливый, хороший друг. Он, может быть, найдет слово, - но не то. Он забеспокоится и постарается развлечь, отвлечь, а ведь это совсем не нужно. Расскажет что-нибудь смешное, а если не удастся, - растреплет свои вихры на висках, сядет в угол и будет ломать спичечную коробочку. Нет, Вася не может; он и сам не знает. Почему он не зашел сегодня, Вася? Все-таки с ним хорошо и покойно.
Перебирая в памяти немногих знакомых, в эти дни оставшихся близкими, подумала об Астафьеве. Если бы он захотел ответить, - но как спросить? Разве об этом спрашивают. И о чем же, собственно? Но об Астафьеве думала Танюша увереннее. Из всех, бывших теперь в особнячке, он был самым незнакомым и особенным. Хорошо бы видеть его чаще. И еще узнать что-нибудь об его жизни, какой он. Нужно спросить Васю; который видет его часто.
Были сумерки весеннего дня, окно было открыто. Танюша вcтала, выглянула на улицу. Тихо, прохожих почти нет. Села к роялю, подняла крышку, положила пальцы на клавиши. Но голова, русая и уставшая думать, упала на руки.
Так сидела долго, не шевелясь.
Когда встала, на глазах просыхали слезы, - ни от чего, так, случайные, девичьи. Может быть, от них прошла усталость - они были нужны.
Потянулась, поправила наброшенный на плечи платок и вдруг почувствовала совсем новую легкость в теле.
Было в комнате свежо, на дворе вечерело. В чем же дело? Разве смерти заполнили все? Тогда почему бы это ощущение легкости и это желание что-нибудь делать, и много знать, и встречать людей, и искать среди них того, кто больше знает и лучше ответит?
До изумительности чувствовала Танюша, как легко дышать и как ощущение жизни просто побеждает и мысль о смертях и самую смерть. Куда-нибудь идти, что-нибудь делать - скорее. Видеть кого-нибудь. И хоть иногда, хоть иногда смеяться, не думая о печальном и не сопоставляя черное и белое - которое победит. Черные томики на полке - а ведь белые листы бумаги еще не початы. И вот надо бы скорее начать.
И подумала: "Мне уже двадцать лет!"
И еще: "Есть ли в мире где-нибудь полная радость? И где она? Где ее искать? И что же такое, наконец, счастье? Где к нему ключ? И где двери в мир большой, обширный, не сжатый стенами старого дома?"
Закинула руки за голову, выпрямилась и громко сказала вслух:
- Я хо-чу жить! Я хо-чу жить!
Не видала, как в темном блеске большого зеркала отразилась высокая прямая девичья фигура с закинутыми руками, не слыхала, как отвечали ей смешным гулом струны рояля, как насторожился вечер, внимая великой нежности и простоте ее слов, и замерли в смущении стены особняка, видевшие Танюшу ребенком, слышавшие ее первый лепет, безмолвные свидетели ее роста, усердные хранители ее душевных тайн.
Стены шепнули, струны донесли весеннему воздуху, - и вечернее небо выслало первую звезду вестником решения совета светил:
Ахios - Достойна!
УХОД
Походкой ровной, шаг за шагом, вытягивая сапог из дорожной грязи, с котомкой за плечами, а с котомки свис жестяной чайник, - с цельной думой на душе шел в Киев старый солдат Григорий.
Потому в Киев, что не осталось у него теперь на Свете никого и ничего, - ни друга, ни сына, ни дома, ни клочка земли, - осталась только прочная вера в сурового Бога, ушедшего из Москвы в мать городов русских, а может, и дале.
Говорили - не дойти. Но кому хранить и терять нечего, тот - свободный землепроход. Хаживали по Руси во все концы странники, убогие, за истиной и милостыней, меньшая нищая братья, калики перехожие, - никто не миновал Киева. Крепок Григорий и телом, и верою, не слеп, не убог, не лишен ума, дойдет солдат.