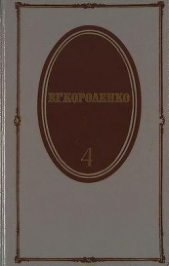Том 7. История моего современника. Книги 3 и 4

Том 7. История моего современника. Книги 3 и 4 читать книгу онлайн
Седьмой том составляют третья и четвертая книги «Истории моего современника».
«История моего современника» — крупнейшее произведение В. Г. Короленко, над которым он работал с 1905 по 1921 год. Писалось оно со значительными перерывами и осталось незавершенным, так как каждый раз те или иные политические события отвлекали Короленко от этого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
История этого карандаша имела свое продолжение. Однажды утром, еще задолго до поверки, я проснулся от странного ощущения, будто на меня надвигается какая-то гора. Раскрыв глаза, я увидел, что над моей постелью стоит Лаптев и укоризненно поматывает своей огромной головой, причем взгляд его прикован к какому-то предмету на стуле, стоявшем рядом с кроватью. На нем лежала открытая книга, кажется тот же Адам Смит, а на ней — преступный карандаш. Очевидно, его заметил в глазок старший надзиратель, может быть знавший о происшествии на свидании, и — поднял Лаптева, жившего довольно далеко от тюрьмы. Огромный указательный перст протянулся по направлению к неосторожной улике, и затем, видимо глубоко огорченный, Лаптев повернулся и вышел из камеры. Я был уверен, что он унес с собой карандаш. Но я ошибся: карандаш остался на месте.
А между тем он, очевидно, доставлял Лаптеву много заботы: когда мать после этого еще раз, уже на прощание, приехала в Вышний Волочек с сестрой, Лаптев встретил ее ласковыми словами. Он знал, что вся наша семья была разбита и матери предстоял долгий и трудный путь в Красноярск к зятю с сестрой и ее ребенком. Он встретил ее с участливым вниманием и, зная, чем угодить матери, стал хвалить меня:
— Хаг'оший сын у вас, очень хаг'оший. И потом прибавил, как бы невольно:
— Ну, есть одно…
— Что такое? Ради бога! — спросила мать.
— Есть, есть одно, — продолжал он таинственно и, видя, что мать встревожена, прибавил: — Каг'андаш у себя имеет…
— Ну это еще ничего, — облегченно вздохнула мать, опасаясь услышать что-нибудь более «политическое».
— Напг'асно вы так думаете… Ах, напг'асно…
Матери пришлось уехать задолго еще до отправления нашей партии. Ей надо было торопиться с отъездом до такой степени, что одно из свиданий, на которое она получила разрешение, должно было остаться неиспользованным. Она пришла утром, и наше свидание проходило печально. Она сидела на этот раз со мной рядом и с грустью говорила о том, как тяжело ей будет ожидать поезда, который уйдет только вечером. Ипполит Павлович ходил по камере, мрачно насупясь. Лицо его становилось все суровее и мрачнее. Вдруг он резко остановился против матери и спросил ее строго:
— Сколько свиданий вам разрешено?
— Четыре, — ответила мать.
— Так вы и обязаны (это слово он произнес с натиском) прийти четыре раза… Надо исполнять г'аспог'яжения начальства. Непременно п'гиходите еще раз до отхода поезда…
Все это он говорил так сурово, точно изрекал приговор, и все это назначалось для слуха старшего надзирателя. И мать в неурочное время просидела у меня, сильно сократив тоскливое ожидание вечернего поезда.
Наша жизнь печальна: скверных мест в ней и до сих пор еще слишком много. Было бы уж слишком тяжело жить, если бы на этих скверных местах хоть изредка не попадались люди вроде Ипполита Павловича Лаптева, или того жандарма в Третьем отделении, который после нарочито суровых окриков («не велено разговаривать!») шепотом сообщал мне сведения о брате, или того служителя в Спасской части, который, сначала прищемив мне ногу дверью, затем с опасностью для себя ввел в мою камеру Битмита. К счастию, на темном фоне этих моих воспоминаний то и дело, как искорки, мелькают и еще будут мелькать неожиданные проявления человечности со стороны «добрых людей на скверных местах».
VI. Жизнь в В.П.Т. — Тюремные развлечения. Коллективный роман
Наш тюремный день в В.П.Т. проходил следующим образом. Прежде всего в нашей камере просыпался прапорщик Верещагин. Проснувшись, он подымал ноги перпендикулярно туловищу вверх, потом быстро опускал их вниз и, как пружина, вскакивал с постели на пол. Тотчас после этого он принимался трубить зорю, искусно подражая горнисту. Его звонкий голос разносился по коридору, указывая, что скоро пройдет поверка и, значит, всем пора вставать. Караульный офицер, смотритель или его помощник с полувзводом солдат обходили камеры, проверяя число арестованных. После этого на некоторое время камеры оставались открытыми. Мы выходили к общему умывальнику, потом собирались в общую столовую для чая или чаще (ввиду недостатка средств на покупку чая) для ячменного кофе.
Затем камеры опять запирались до обеда. В это время, особенно вначале, в наши камеры прокрадывалась тюремная скука. Все мы были здоровы, бодры и сильно томились невольным безделием. Впоследствии рядом настойчивых, официальных прошений, которыми мы засыпали губернатора и даже министра, нам удалось добиться некоторого количества книг. Но вначале и их не было. Поэтому особенно дороги были люди, не поддававшиеся скуке. Одним из таких людей был прапорщик Верещагин. За что он попал в политическую тюрьму, никто из нас в точности не знал. Язвительный Кожухов утверждал, что это постигло прапорщика «за пьянство, за буянство и за побитие фонарей». Нельзя сказать, чтобы Верещагин опровергал это с особой убедительностью. Вообще он застенчиво избегал разговоров о причинах своей ссылки. Известно было, что до катастрофы он ходил добровольцем, в Сербию. Он с восхищением рассказывал о том, как в Сербии рядовые вне строя свободно протягивают руку военному министру и тот охотно отвечает рукопожатием. Вернувшись опять в Россию, он уже не мог забыть сербских порядков и привыкнуть к российской армейской дисциплине. Кроме этих демократических воспоминаний, он вывез из Сербии замечательную коллекцию сербских, болгарских и турецких ругательств, и, кажется, больше ничего. Вообще же он обладал многими общежительными талантами. Во-первых, он знал все военные сигналы и отлично разыгрывал их на губах. Кроме того, мог на разные голоса выкрикивать командные слова. Когда стало тепло, Верещагин, устроившись у открытого окна, производил примерные учения и смотры, изображая в лицах начальство разных рангов, начиная от командира полка и кончая дивизионным генералом. Особенно удавался ему старый полковник с сильно осипшим голосом. Все это он производил так артистически, что даже караульные офицеры и солдаты прислушивались к этим примерным учениям, ухмыляясь и с видимым интересом, пока прапорщику не пришлось их прекратить.
Был у нас одно время в числе караульных офицеров подпоручик Соловьев. Человек еще совсем молодой, с нездоровым и желчным цветом лица, он, по-видимому, не пользовался расположением ни солдат, ни товарищей офицеров, поэтому они слушали, весело улыбаясь, как Верещагин, голосом старого полковника, распекал Соловьева:
— Па-ад-паручик Соловьев!.. Что это у вас за походка! Вы ходите не как бравый офицер, а как стар-рая ба-ба!
Представление всегда имело большой успех, пока однажды Верещагин, то ли не заметив смены караульного, то ли не удержавшись от соблазна, проделал примерное учение с распеканием в присутствии… самого Соловьева. Тот пришел в бешенство и пригрозил Лаптеву, что в случае повторения он прикажет караульным стрелять в окно. Лаптев явился встревоженный, и примерные учения пришлось прекратить.
Были у веселого прапорщика и другие таланты. Он часто ходил в кухню и умел порой разнообразить наш скудный стол. Кроме того, он сочинял стихи, перемешивая фривольные казарменные темы, имевшие у нас мало успеха, с темами нравоучительного свойства. Эти последние порой вызывали у нас настоящий фурор. Особенное веселье возбуждало в нашей аудитории одно стихотворение Верещагина, начинавшееся словами:
— Кор-рыстолюбие!! Тебя я презираю. Прапорщик становился в позу и декламировал
с большим оживлением, указывая перстом в ту сторону, где стояла койка Кожухова. С Кожуховым вообще у него происходили столкновения из-за разницы темпераментов. Корыстолюбие этого молодого человека прапорщик усматривал в той тщательности, с которой он охранял свое мыло и другие мелочи, оберегая их от посягательств безалаберного Верещагина.
Наконец тот же веселый прапорщик ввел у нас для развлечения тюремные игры. Все они были заимствованы от уголовных, и все были более или менее спартанского свойства. Двум завязывали глаза и одному из ослепленных таким образом давали в руки туго скрученный жгут. Остальные становились вдоль стен и наблюдали, как оба действующие лица искали ощупью друг друга. Вся соль состояла в том, что жертва, порой с самым хитрым видом, прислушиваясь к шагам палача, как раз устремлялась навстречу его ударам. Иногда, когда жгут бывал в руках Верещагина, а избегать ударов приходилось Кожухову или наоборот, — игра приобретала довольно драматический характер.