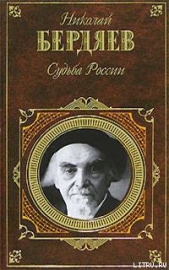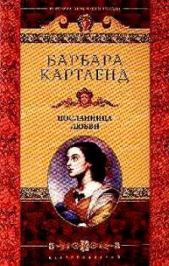Повесть о прожитом

Повесть о прожитом читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Ну, ничего не поделаешь! До следующего раза. Они начали пробираться назад. Лекция не состоялась. Кроме студентов, в университет приходило тогда множество посторонних; никаких пропусков не спрашивали. Никто не раздевался. Бывшие солдаты, отрастившие бороды или давно небритые, в грязных шинелях; недоучившиеся в свое время учителя в перешитых из дореволюционных шуб кацавейках и бекешах; разный народ, одетый в тулупы из кислой овчины; партийные и комсомольские активисты в модных тогда куртках из моржового меха, разный люд в сапогах, обмотках, валенках; женщины в кожаных куртках и кепках - все на этом учебном базаре искали науку по своему вкусу. Протиснувшись в аудиторию, они через головы стоявших у дверей смотрели, кто и о чем читает лекцию, многие проталкивались обратно и шли искать что-нибудь более подходящее для себя. Определенной программы на факультете не было. Обязательным был только "переходный минимум". А кроме него, можно было выбирать и слушать что кому нравится. Лекции читали разные люди: старые профессора, академики Богословский, Петрушевский, Сакулин и даже такой всем известный ретроград, как Любавский, а вместе с ними и бывшие преподаватели эмигрантских партийных школ Бухарин, Луначарский, Милютин, Покровский, Рязанов, еще не привыкшие к своему новому положению вождей, или отказавшийся от этого положения Богданов. В качестве преподавателей университета приютились бывшие теоретики меньшевиков и эсеров - Суханов, Маслов, Гинзбург, Огановский, на исторических кафедрах устроились известные учителя закрывшихся гимназий; выдающимися профессорами сделались земские статистики, некоторые поэты и писатели, газетные обозреватели... В 1922 году объявили, что историю поэзии ХХ века будет читать Валерий Брюсов. В большой аудитории набилось так много народу, что слабые лампочки над задними рядами еле просвечивали сквозь испарения, поднявшиеся от мокрой одежды. Люди сидели не только на скамьях, но и на полу, на подоконниках и стояли вдоль стен. Вдруг погас свет. Началась суета. Притащили лестницу, пытались устранить неисправность, но лампочки не загорались. Наконец с трудом удалось зажечь одну над столом лектора. Аудитория слабо освещалась через окна от уличных фонарей. Вошел Брюсов. Ничего подобного встречать тогда не приходилось. Он был в крахмальной рубашке и великолепной синей визитке, из кармана выглядывал уголок белого платка. Известная по портретам, аккуратно подстриженная острая бородка была уже почти седая. Большего контраста с темной, отсыревшей толпой, сгрудившейся в аудитории, как на вокзале, трудно было представить. Брюсов рассказывал о Бальмонте. Остановившись на его "Лебединой песне", он обратился к аудитории: - Кто ее помнит? Аудитория молчала. Он подождал и сказал: - Странно. В наше время ее знали все. Он стал декламировать сам - немного нараспев, глуховатым голосом, прекрасно передавая музыкальность стиха. Потом так же продекламировал "Камыши" и другие стихотворения. Было красиво, но не этого требовала аудитория. Я ходил слушать лекции совершенно разных преподавателей. Все было чрезвычайно интересно. Опыт войн и революций заставил научную мысль многое пересмотреть и переоценить. А так как печататься было невозможно, то профессора в своих лекциях пытались, стремились рассказывать о новых возникших точках зрения, находках и открытиях. В маленькой аудитории Алексей Иванович Яковлев читал методологию исторической науки. Аудитория набивалась до отказа. Обычно последним, сразу же вслед за лектором, наверное, чтоб не толкаться в студенческой толпе, приходил плотный военный с гладко выбритой головой, становился у двери и напряженно, с большим вниманием слушал до самого конца. Это был Вацетис, главнокомандующий вооруженными силами республики. Яковлев выяснял, как и почему менялись взгляды на исторический процесс. Вацетис преподавал в военной академии и считал нужным тоже в этом разобраться. Студенчество состояло в основном из мелкой интеллигенции. Не имея ничего, она всегда хочет всего и, естественно, ненавидит тех, у кого уже что-то есть. Так же, как мелкая буржуазия, мечтая стать крупной, считает своим злейшим врагом крупную буржуазию, так и мелкая интеллигенция смертельно ненавидит крупную интеллигенцию. В университете эта ненависть направлялась на старых профессоров. Против них повелась ожесточенная борьба, оружием в которой стали демагогия и наигранный темперамент революционного бунта. Сопротивлялся этой борьбе только профессор Челпанов. Это был упрямый старик с горячей украинской кровью, считавший, несмотря на свой шестидесятилетний жизненный опыт, что истину можно доказать. В Психологическом институте, где он был директором, он устраивал публичные диспуты. Челпанов утверждал, что самостоятельное рассмотрение душевных явлений вовсе не означает отрицания их материального происхождения. Он говорил: - Мы занимаемся внутренним опытом человека, его сознанием. Мы называем это душевными явлениями, или душой. И каково бы ни было происхождение душевных явлений, отрицание их реальности и замена их изучением физиологических процессов означают отказ от объяснения нашей души. В переполненной аудитории было множество уже заранее враждебно настроенных слушателей. Упоминание о душе и душевных явлениях сразу вызывало выкрики: - Поповщина! Клерикализм! Челпанов, раздосадованный тем, что сквозь стену, о которую он бился, не доходят никакие логические доводы, но умевший сдерживаться, покусывал свои черные с проседью усы. Потом сказал: - По-видимому, аудитории неизвестно, что Маркс никогда не отрицал реальность человеческого сознания. Послушайте: самый плохой архитектор отличается от наилучшей пчелы тем, что, прежде чем строить что-либо, он строит в своей голове, в сознании мыслительный проект. А Энгельс подчеркивал, что законы внешнего мира и человеческого сознания - это два ряда законов, которые, в сущности, тождественны, но по форме различны. Понимаете - различны! На мгновение аудитория стихла. Потом кто-то крикнул: - Не смейте касаться Маркса! - С передней скамьи вскочила маленькая женщина в кожаной куртке, с коротко остриженными курчавыми черными волосами.- Не смейте использовать Маркса в своих реакционных целях! Аудитория захлопала. Когда все утихли, Челпанов, уже не сдерживая себя, сказал: - Вы только что пришли в университет. Вам многое будет понятней, когда вы дойдете до третьего курса. Вместе с враждебными Челпанову слушателями в аудитории было и много сочувствующих. Эта его реплика тоже вызвала аплодисменты. Та же маленькая женщина, обернувшись к аудитории, закричала: - Чему вы хлопаете? Он оскорбляет нас! Кто-то, перевесившись с верхней скамьи, возразил: - Не нас, а вас! На кафедру вышел Корнилов. Аудитория притихла. Это был молодой доцент из челпановского института, с длинными, зачесанными назад волосами и красивой темной большой бородой. Он уже понял, по какому течению надо плыть, и потому сказал: - То, что высокопарно называют здесь душой,- это субъективное выражение не каких-то особых душевных, психологических, а самых обыкновенных физиологических процессов. А объективно они выражаются в движениях. Описание движений, которыми человек отвечает на действие раздражителей, и есть предмет психологии. Да, описание движений. Когда он кончил и стихли аплодисменты, поднялся Челпанов: - Позвольте вам при всех сказать, Константин Николаевич, что говорили вы, конечно, не для нас, а только для них.- Он указал на аудиторию. Вскоре партийная организация решила потребовать от ректората запретить диспуты, потому что на них пропагандируется поповщина. Диспуты кончились. Директором Психологического института и заведующим кафедрой психологии вместо Челпанова был назначен Корнилов. Борьба со старыми профессорами активно поощрялась. Я был далек от того, что делается в партийной жизни университета, но знал, что бунтуют и там. Меньшевистские и эсеровские организации были закрыты еще в 1921 году. Их вожди были арестованы. В 1922-1923 годах до меня доходили слухи о том, что, несмотря на запрет, они продолжают действовать. Но ничего определенного я не знал. Я хотел стать историком. Это не значит, что меня интересовали исторические законы. Я любил историю как предмет художественного восприятия: мне хотелось чувствовать, что за люди скрывались за историческими именами, как они жили, как выглядели, как говорили; представлять себе тогдашнюю обстановку, тогдашний город, его улицы, толпу так, чтобы, закрыв глаза, увидеть все как наяву. Для меня картины Рябушкина были историей в большей мере, чем четырехтомный фельетон Покровского. Даже фактологические исследования, в которых расследовалась скорее достоверность фактов, нежели живописалась ушедшая действительность, казались мне более похожими на работу следователя, чем историка. Но я и здесь, по-видимому, еще не дорос до понимания науки так, как ее понимали уже все в конце ХIХ и начале ХХ века. И тем не менее я всеми силами тянулся к ней.