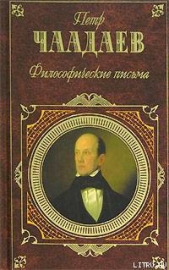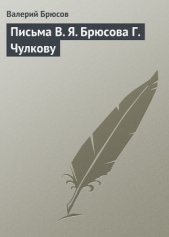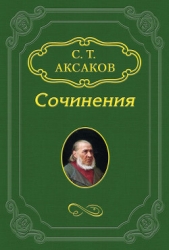Философические письма
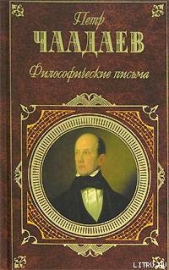
Философические письма читать книгу онлайн
П.Я.Чаадаев (1794—1856), выдающийся русский мыслитель и публицист, при жизни опубликовал только одно свое произведение – первое письмо «Философических писем», после чего был объявлен сумасшедшим и лишен права печататься. Тем не менее Чаадаев оказал мощнейшее влияние на русскую мысль и литературу 19-го столетия. О нем писали и на него ссылались Пушкин, Герцен, Тютчев, Жуковский. Чаадаева сравнивали с Паскалем и Ларошфуко. Глубокий ум, честь и деятельная любовь к России освещают наследие П. Я. Чаадаева, оставляя его актуальным русским мыслителем и для современного читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нам остается еще только Гомер. В настоящее время вопрос о том влиянии, которое Гомер оказал на человеческий ум, не оставляет больше сомнений. Мы отлично знаем, что такое гомеровская поэзия; мы знаем, каким образом она содействовала определению греческого характера, в свою очередь определившего характер всего древнего мира; мы знаем, что эта поэзия явилась на смену другой, более возвышенной и более чистой, от которой до нас дошли только обрывки. Мы знаем также, что она ввела новый порядок идей на место прежнего, выросшего на греческой почве, и что эти первоначальные идеи, отвергнутые новым мышлением и нашедшие себе убежище частью в мистериях Самофракия [132], частью под сенью других святилищ забытых истин, продолжали существовать с тех пор лишь для небольшого числа избранных или посвященных [133] но чего, мне кажется, мы не знаем, это той общей связи, которая существует между Гомером и нашим временем, того, что до сих пор уцелело от него в мировом сознании. Между тем в этом, собственно, и заключается весь интерес настоящей философии истории, так как главная цель ее исследований состоит, как вы видели, в отыскании постоянных результатов и вечных последствий исторических явлений.
Итак, для нас Гомер в современном мире остается все тем же Тифоном [134] или Ариманом [135], каким он был в мире, им самим созданном. На наш взгляд, гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земле – это все заимствовано нами у него. Заметьте, что ничего подобного никогда не наблюдалось в других цивилизованных обществах мира. Одни только греки решились таким образом идеализировать и обоготворять порок и преступление, так что поэзия зла существовала только у них и у народов, унаследовавших их цивилизацию. По истории средних веков можно ясно видеть, какое направление приняла бы мысль христианских народов, если бы она всецело отдалась руке, которая ее вела. Следовательно, эта поэзия не могла прийти к нам от наших северных предков: ум людей севера отличался совсем другим складом и менее всего был склонен прилепляться к земному; если бы он один сочетался с христианством, то, вместо того, что произошло, он скорее потерялся бы в туманной неопределенности своего мечтательного воображения. Впрочем, от крови, которая текла в их жилах, у нас уже ничего не осталось, и мы учимся жить не у народов, описанных Цезарем и Тацитом, а у тех, которые составляли мир Гомера.
Лишь с недавнего времени поворот к нашему собственному прошлому снова приводит нас понемногу на лоно родной семьи и позволяет нам мало-помалу восстановить отцовское наследие. Мы унаследовали от народов севера одни лишь привычки и традиции; ум же питается только знанием; наиболее застарелые привычки утрачиваются, наиболее укоренившиеся традиции изглаживаются, если они не связаны со знанием. Между тем все наши идеи, за исключением религиозных, мы несомненно получили от греков и римлян.
Таким образом, гомеровская поэзия, отвратив сперва на древнем Западе ход человеческой мысли от воспоминаний о великих днях творения, сделала то же и с новым; перейдя к нам вместе с наукой, философией и литературой древних, она до такой степени заставила нас слиться с ними, что в настоящее время, при всем том, чего мы достигли, мы все еще колеблемся между миром лжи и миром истины. Хотя в наши дни Гомером занимаются очень мало и, наверно, его не читают, его боги и герои тем не менее все еще оспаривают почву у христианской мысли. Дело в том, что в этой глубоко земной, глубоко материальной поэзии, необычайно снисходительной к порочности нашей природы, действительно заключается какое-то удивительное обаяние; она ослабляет силу разума, своими призраками и обольщениями держит его в каком-то тупом оцепенении, убаюкивает и усыпляет его своими мощными иллюзиями. И до тех пор, пока глубокое нравственное чувство, порожденное ясным пониманием всей древности и всецелым подчинением ума христианской истине, не наполнит наши сердца презрением и отвращением к этим векам обмана и безумия, которые до сих пор в такой степени владеют нами, к этим настоящим сатурналиям [136] в жизни человечества, – пока своего рода сознательное раскаяние не заставит нас стыдиться того бессмысленного поклонения, которое мы слишком долго расточали этому гнусному величию, этой ужасной добродетели, этой нечистой красоте, – до тех пор старые дурные впечатления не перестанут составлять самый жизненный и деятельный элемент нашего разума. Что касается меня, то, по моему мнению, для того, чтобы нам вполне переродиться в духе откровения, мы должны еще пройти через какое-нибудь великое испытание, через всесильное искупление, которое весь христианский мир испытывал бы во всей его полноте, которое на всей земной поверхности ощущалось бы как грандиозная физическая катастрофа; иначе я не представляю себе, каким образом мы могли бы очиститься от грязи, еще оскверняющей нашу память [137]. Итак, вот как философия истории должна понимать гомеризм. Судите теперь, какими глазами должна она смотреть на личность Гомера. Подумайте, не обязана ли она ввиду этого по совести наложить на его чело клеймо неизгладимого позора!
Вот, сударыня, мы и пересмотрели всю нашу галерею лиц. Я не сказал вам всего, что имел сказать, но пора кончить. И знаете ли что? В сущности, у нас, русских, нет ничего общего ни с Гомером, ни с греками, ни с римлянами, ни с германцами; нам все это совершенно чуждо. Но что же делать? поневоле приходится говорить языком Европы. Наше чужеземное образование до такой степени заставило нас держаться Европы, что, хотя мы и не усвоили ее идей, у нас нет другого языка, кроме того, на котором говорит она; таким образом, нам не остается ничего другого, как говорить этим языком. Если немногие имеющиеся у нас умственные навыки, традиции и воспоминания и все наше прошлое не связывают нас ни с одним народом земли, если мы не принадлежим, в сущности, ни к одной из систем нравственного мира, то во всяком случае внешность нашего социального быта связывает нас с западным миром. Эта связь, очень слабая в действительности, не скрепляет нас с Европой так тесно, как это воображают, и не заставляет нас всем нашим существом почувствовать совершающееся там великое движение, но она тем не менее ставит всю нашу будущую судьбу в зависимость от судеб европейского общества. Поэтому, чем больше мы будем стараться слиться с последним, тем лучше это будет для нас. До сих пор мы жили совершенно обособленно. То, чему мы научились у других, оставалось снаружи, служа простым украшением и не проникая нам в душу. Но в настоящее время силы господствующего общества настолько возросли, его влияние на остальную часть человеческого рода столь далеко распространилось, что скоро мы душой и телом будем вовлечены в мировой поток. Это не подлежит сомнению, и, наверно, нам нельзя будет долго оставаться в нашем одиночестве. Сделаем же все, что можем, чтобы подготовить путь нашим потомкам. Так как мы не можем завещать им то, чего не имели сами, – верований, образованного временем ума, резко очерченной индивидуальности, мнений, развившихся в течение долгой оживленной и деятельной умственной жизни, плодотворной по своим результатам, – то оставим им, по крайней мере, несколько идей, которые, хотя мы и не сами их нашли, все же, перейдя от одного поколения к другому, будут заключать в себе некоторый традиционный элемент и в силу этого будут обладать несколько большей силой и плодовитостью, чем наши собственные мысли. Таким образом мы окажем потомству важную услугу и не напрасно проживем на земле.
Прощайте, сударыня. Вполне в вашей власти заставить меня продолжить мои рассуждения об этом предмете, сколько вам будет угодно. Впрочем, к чему в задушевной беседе, где собеседники вполне понимают друг друга, разрабатывать и исчерпывать до конца каждую мысль? Если того, что я сказал вам, достаточно, чтобы изучение истории могло дать вам нечто новое и возбудить в вас более глубокий интерес, чем какой оно вызывает обыкновенно, я буду вполне удовлетворен. [138]