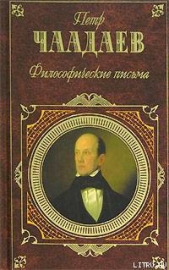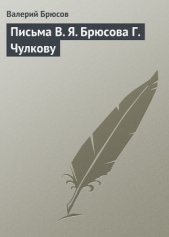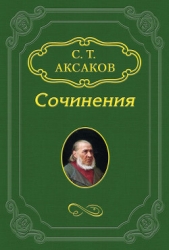Философические письма
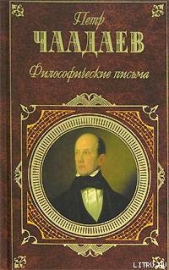
Философические письма читать книгу онлайн
П.Я.Чаадаев (1794—1856), выдающийся русский мыслитель и публицист, при жизни опубликовал только одно свое произведение – первое письмо «Философических писем», после чего был объявлен сумасшедшим и лишен права печататься. Тем не менее Чаадаев оказал мощнейшее влияние на русскую мысль и литературу 19-го столетия. О нем писали и на него ссылались Пушкин, Герцен, Тютчев, Жуковский. Чаадаева сравнивали с Паскалем и Ларошфуко. Глубокий ум, честь и деятельная любовь к России освещают наследие П. Я. Чаадаева, оставляя его актуальным русским мыслителем и для современного читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это величие пытались умалить, утверждая, будто вначале он помышлял лишь об освобождении своего народа от невыносимого ига, хотя и отдавали при этом должное героизму, выказанному им в этом деле. В нем старались видеть не более как великого законодателя, и, кажется, в настоящее время его законы находят удивительно либеральными. Говорили также, что его бог был только национальным богом и что он заимствовал всю свою теософию у египтян. Конечно, он был патриотом, да и может ли великая душа, каково бы ни было ее призвание на земле, быть лишенной патриотизма? К тому же есть общий закон, в силу которого воздействовать на людей можно лишь через посредство того домашнего круга, к которому принадлежишь, той социальной семьи, в которой родился; чтобы явственно говорить роду человеческому, надо обращаться к своей нации, иначе не будешь услышан и ничего не сделаешь. Чем более непосредственно и конкретно нравственное воздействие человека на его ближних, тем оно надежнее и сильнее; чем индивидуальнее слово, тем оно могущественнее. Высшее начало, двигавшее этим великим человеком, ни в чем не познается так ясно, как в безусловной действительности и верности тех средств, которыми он пользовался для осуществления предпринятого им дела. Возможно также, что он нашел у своего племени или других народов идею национального бога и что он воспользовался этим фактом, как и многими другими данными, почерпнутыми им в прошлом, чтобы ввести в человеческий ум свой возвышенный монотеизм. Но отсюда не следует, чтобы Иегова [116] не был и для него, как для христиан, всемирным богом. Чем более он старается замкнуть и изолировать этот великий догмат в своем племени, чем более он прибегает для достижения этой цели к необычайным средствам, тем яснее выступает во всей этой работе высокого ума глубоко универсальный замысел – сохранить для всего мира, для всех грядущих поколений понятие о едином боге. Среди господствовавшего тогда по всей земле многобожия можно ли было найти более верное средство воздвигнуть истинному богу неприкосновенный алтарь, как внушить народу, ставшему хранителем этого святилища, расовое отвращение ко всякому племени идолопоклонников и связать все социальное бытие этого народа, всю его судьбу, все его воспоминания и надежды с одним этим принципом? Прочитайте с этой точки зрения Второзаконие [117], и вы будете изумлены тем, какой свет оно проливает не только на систему Моисея, но и на всю философию откровения. В каждом слове этого необыкновенного повествования видна сверхчеловеческая идея, владевшая умом автора. Ею объясняются также те ужасные поголовные истребления, которые предписывал Моисей и которые так странно противоречат мягкости его натуры и казались столь возмутительными философии еще более непонятливой, чем безбожной. Эта философия не постигала того, что человек, являвшийся столь дивным орудием в руке провидения, доверенным всех его тайн, не мог действовать иначе, чем действует само провидение или природа; что для него эпохи и поколения не имели никакой цены, что его миссия заключалась не в том, чтобы явить миру образец правосудия или нравственного совершенства, но в том, чтобы внести в человеческий ум необъятную идею, которая не могла родиться в нем самостоятельно. Не думают ли, что, когда, заглушая вопль своего любящего сердца, он приказывал истреблять целые племена и поражал людей мечом божественного правосудия, он был озабочен лишь расселением тупого и непокорного народа, который он вел за собой? Поистине превосходная психология! Как поступает она, чтобы не восходить до истинной причины рассматриваемого явления? Она избавляет себя от труда, совмещая в одной и той же душе самые противоречивые черты, соединения которых в одной личности ей на деле никогда не приходилось наблюдать!
Что нам за дело, впрочем, до того, почерпнул ли Моисей некоторые указания из египетской мудрости? Что за важность, если он и помышлял сначала лишь об освобождении своего народа от ига рабства? Разве от этого становится менее достоверным тот факт, что, осуществив среди этого народа идею, либо заимствованную им со стороны, либо почерпнутую в глубине собственного духа, и окружив ее всеми условиями нерушимости и вечности, какие только можно найти в человеческой природе, он тем самым дал людям истинного бога, и, следовательно, род человеческий всем своим умственным развитием, вытекающим из этого принципа, бесспорно обязан ему?
Давид – одно из тех исторических лиц, чьи черты нам переданы всего лучше. Что может быть ярче, драматичнее, правдивее его истории, что может быть характернее его физиономии? Повесть его жизни, его возвышенные песни, в которых настоящее удивительно сливается с будущим, так хорошо рисуют стремления его души, что в его личности не остается для нас решительно ничего скрытого. При всем том впечатление, подобное тому, какое мы получаем от героев Греции и Рима, он производит лишь на умы глубоко религиозные. Это опять-таки происходит оттого, что все эти великие люди Библии принадлежат к особому миру; сияние, окружающее их чело, удаляет их всех, к несчастию, в такую область, куда ум переносится неохотно, в сферу неотвязных сил, непреклонно требующих покорности, где всегда стоишь перед лицом неумолимого закона, где больше ничего не остается, как пасть ниц перед этим законом. А между тем как уразуметь развитие эпох, если не изучать его там, где обусловливающее его начало обнаруживается всего явственнее?
Противопоставляя этим двум исполинам Писания Сократа и Марка Аврелия, я хотел этим контрастом столь несходных примеров величия заставить вас лучше оценить те два мира, откуда они взяты. Прочитайте у Ксенофонта анекдоты о Сократе [118], отрешившись при этом, если можете, от предубеждения, связанного с его памятью; подумайте о том, как много его смерть прибавила к его славе, вспомните о его пресловутом демоне, о его снисходительном отношении к пороку, которое он, надо сознаться, доводил иногда до удивительной степени [119]; вспомните различные обвинения, которые взводили на него его современники; вспомните ту фразу, которую он произнес перед самой смертью и которая навсегда запечатлела для потомства всю шаткость его мысли; вспомните, наконец, о всех несогласных, нелепых и противоречивых учениях, которые вышли из его школы. Что касается Марка Аврелия, то и по отношению к нему надо отбросить всякое суеверие; обдумайте хорошенько его книгу [120]; припомните лионскую резню [121], ужасного человека [122], в руки которого он предал мир, время, в которое он жил, высокую сферу, к которой он принадлежал, и все средства величия, которыми он располагал благодаря своему положению в мире. Затем сравните, пожалуйста, плоды сократовской философии с влиянием религии Моисея, личность римского императора с личностью того, кто, из пастуха став царем, поэтом, мудрецом, воплотил в себя великий и таинственный идеал пророка-законодателя, кто сделался центром того мира чудес, в котором должны были свершиться судьбы человечества, кто окончательно определил глубокое и исключительное религиозное направление своего народа, долженствовавшее поглотить все его существование, и этим путем создал на земле порядок вещей, благодаря которому только и стало возможным возникновение на ней царства истины. Я не сомневаюсь, что вы согласитесь тогда, что если поэтическая мысль изображает нам людей, подобных Моисею и Давиду, сверхчеловеческими существами и окружает их особым светом, то, с другой стороны, и здравый смысл, при всей своей холодности, не может не видеть в них нечто большее, чем просто великих, необыкновенных людей, и вам станет ясным, мне кажется, что в духовной жизни мира эти люди несомненно были вполне непосредственными проявлениями управляющего ею высшего закона и что их появление соответствует тем великим эпохам физического порядка, которые время от времени преобразуют и обновляют природу. [123]