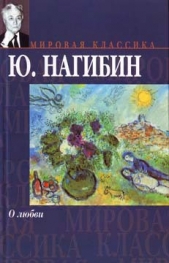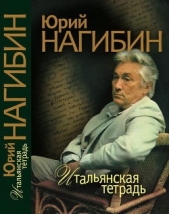Сильнее всех иных велений (Князь Юрка Голицын)

Сильнее всех иных велений (Князь Юрка Голицын) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Принято, - сказал Голицын, вспомнив, что таковы были условия пушкинской дуэли, считавшиеся крайне жесткими. Нарочно или случайно сделал свое предложение маркиз? При его осведомленности обо всем на свете он мог знать, что так стрелялись Дантес с Пушкиным. Значит, меня ждет участь Пушкина? Черта с два!..
Ему стало весело при мысли о том, что он разочтется за Пушкина, кровью этого хулителя России смоет пятно с русской чести.
Маркизу не понравилась его веселость.
- Имейте в виду, в двенадцати шагах я делаю из туза пятерку.
- А мне-то что? - небрежно отозвался противник.
Ничто тебе не поможет, ликовал Голицын. Хватит, попили русской кровушки. Теперь наш черед. Начиню я тебя свинцом, друг мусью. За мной Пушкин и все русские праведники.
Но не защитили его ни покровители святой Руси, ни сам Александр Сергеевич от меткой пули маркиза. Видать, нужно было кому-то для высших целей, чтобы он пролил кровь за правое дело. Пуля попала в ляжку, вызвав обильное кровотечение. Маркиз выстрелил, едва секундант бросил платок; он был слишком уверенным стрелком, а князь слишком крупной и соблазнительной мишенью, чтобы идти на сближение с противником, подвергая себя опасному риску. Он знал, что не промахнется, и был прав. Князя, как ни странно, спасло телесное изобилие, делавшее его столь уязвимым. Всякого другого такой выстрел уложил бы на землю, а в жирных и крепких мясах князя пуля завязла и не достигла кости. Маркиз видел, как растекается пятно на светло-серых панталонах князя, и ждал, что тот рухнет. Но князь шел и шел, хотя противно, наверное, идти к барьеру в мокрых штанах, и медленно подымал руку с пистолетом. Маркизу ничего не оставалось, как тоже идти навстречу пуле, которая будет к нему не столь снисходительна. Он сам поставил столь жесткие условия. На таком расстоянии не промахиваются. "Ну, падай же, падай! взывал про себя маркиз. - Рана кровоточит, пуля угодила почти в пах. Это тяжелая, смертельная рана, ты умрешь от потери крови, ты уже мертв, так веди себя, как положено мертвецу!.."
Но князь Голицын не хотел соблюдать достоинство трупа, он подходил все ближе к черте, проведенной секундантом, огромный, как собор, ветер трепал яркий платок у него на шее, пушил бакенбарды, шевелил усы, вздымал волосы, и особенно страшен казался в этой мельтешне неподвижный холодный взгляд. Теперь их отделяли друг от друга десять шагов, в сущности, узенькая полоска земли в мелких звездчатых цветочках. Казалось, князь может дотянуться до него стволом пистолета, и маркиза передернуло от физического отвращения. Нет, пистолет не дотянулся, но черный кружок дула уставился ему в переносье, значит, пуля попадет прямо в лоб. Неужели можно стрелять в безоружного? пытался заговорить судьбу маркиз, начисто выбросив из головы, что безоружным он стал лишь потому, что поторопился с выстрелом. - Это не похоже на русского аристократа, большого барина, вельможу. Маркиз достаточно знал русских, они часто бывают несдержанны, заносчивы, вспыльчивы, но всегда благородны. И ведь Голицын - музыкант, человек искусства, гуманист. Русские поэты не убивают противников. Лермонтов выстрелил в воздух, Пушкин, правда, попал в Дантеса, но уже смертельно раненный, когда не мог хорошенько прицелиться. И тут Голицын сощурил левый глаз. Он что - с ума сошел? О боже!.. Скорей бы кончилась эта пытка. Стреляй, убийца, мясник, вот мой лоб, за ним кипят мысли, рождаются образы, вспыхивают изящные шутки, обидеться на которые может только варвар. Да он нарочно медлит, издевается, негодяй!..
Голицын не стрелял лишь потому, что хотел дослушать звучавшую в нем музыку. Вначале ему казалось, что это Бах, но потом он понял, что слышит музыку, которой еще не было, свою собственную музыку, творимую без участия сознания и воли. Музыку слишком чистую и высокую для этой дуэли, для мести, даже для расплаты за гения России, которого не вернешь убийством другого человека. Заключительный аккорд обернулся коротким взвоем, и в очнувшихся зрачках Голицына больше не было бледного, прорезанного морщинами чела. Маркиз лежал на земле в глубоком обмороке.
- Заберите этого труса, - сказал Голицын подбежавшим секундантам. Выстрел остается за мной. - И, зажав сочащуюся рану, заковылял к карете.
Дуэль не придала блеска личности маркиза. К тому же не давший себя убить Голицын навсегда разочаровал его в русских художниках-аристократах. Их великодушие и благородство - дутые. Маркиз решил скрыться. Он уехал в Германию, где после недолгих странствий облюбовал тихий поэтичный Веймар, чтобы возле бывшей обители олимпийца Гете обрести душевный покой. Он почти преуспел в этом, поняв, как ничтожна ссора с поддельным русским князем, капельмейстером-авантюристом, нагло присвоившим громкое имя, - с таким и к барьеру выходить зазорно, - как вдруг возле Гердеркирхе почти наскочил на Голицына. Маркиз успел спрятаться за колонну, и великан в своих экзотических просторных развевающихся одеждах, что-то мурлыча под нос и размахивая руками, прошел мимо. Мстительный дикарь, гунн, скиф выследил его, чтобы сделать свой губительный выстрел!.. Вот она, истинно азиатская, ничего не прощающая, душная, тупая злоба. А маркиз простил ему, выбросил из головы глупую, вздорную историю. А этот ничего не забыл. Элегантные фраки, парижское произношение, а чуть колупни - степные кочевники, нет, хуже, те одинокие дикари, потерянные в чудовищном пространстве, что тянут свои бесконечные, заунывные, страшные песни. Потомки унаследовали упорство, терпение и непреклонность угрюмых певцов. Страшно подумать, что возле изящной и хрупкой, как севрский фарфор, Европы топчется косолапое чудище с железным рылом.
Не искушая судьбы, маркиз в тот же вечер покинул Веймар. Он вернулся во Францию, - но, боясь, что и сюда дотянется длинная лапа с пистолетом, почел за лучшее перебраться в Новый Свет.
Он неплохо устроился там, открыв неожиданную прелесть в полуцивилизации. При всей своей эрудиции, талантах и остроумии он оставался в Европе одним из многих, слава его не выходила за пределы гостиных, здесь же оказался единственным. Он поселился в Бостоне, и чтобы полюбоваться им и послушать его искрящуюся, непонятную и тем особенно притягательную речь, приезжали туземцы из таких далеких "пуэбло", как Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор.
Маркиз хорошо прижился в этом мире, усвоил местные обычаи, чуть-чуть привычки и манеры, ровно настолько, чтобы польстить аборигенам, но не утратить своего пряного своеобразия, он не научился лишь читать газеты, которых здесь выходило без числа, хотя все были на одно лицо: много скучнейшей политики, сухой биржевой цифири, до одури - рекламных объявлений, обширный отдел происшествий, уголовная хроника и раз в неделю - сопливый нравоучительный рассказик. Но и в газетах случается полезное, особенно в отделе текущих событий. Маркиз ненавидел самый запах типографской краски, напоминающий запах мочи, у него в доме газеты были под запретом. А зря. Иначе не оказалась бы для него столь ошеломительной встреча с Голицыным на одной из улиц Бостона, куда тот приехал с концертом. Не было сомнений: кровопийца последовал за ним в Америку, чтобы получить свой долг.
С первым же пароходом маркиз отплыл на родину. Здесь он скрылся за стенами глухого монастыря под Ла-Рошелью, где вскоре принял постриг. В свободное от монастырских обязанностей время он писал книгу о романской архитектуре, благо вокруг было столько прекрасных образцов, но не кончил ее, ибо во всем оставался дилетантом, то есть человеком, не знающим завершающего успеха.
Конечно, Голицын и не думал преследовать маркиза. Он вообще забыл о трагикомической дуэли. Если б Голицын сосредоточивался на подобных пустяках, то давно бы поник под грузом впечатлений, на которые не скупилась судьба. Он умел жить данной минутой, жить с полным напряжением душевных сил, искренне, горячо, порой неистово, но когда эта данность исчерпывала себя, он к ней уже не возвращался. Протяженным в его жизни оставался лишь хор, давший ему в конце концов полное совпадение с собственной сутью. Все остальное - пена. И пена не пустяк, коли из нее родилась Афродита, коли она вскипает над бокалом золотого аи. Но остроумный маркиз не был даже пеной, так - пузырьком, надувшимся и сразу лопнувшим.