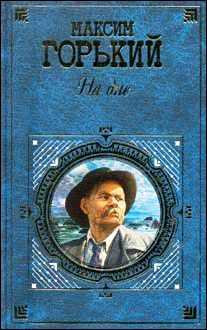Том 9. Жизнь Матвея Кожемякина

Том 9. Жизнь Матвея Кожемякина читать книгу онлайн
В девятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1909–1912 годах. Из них повести «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина» входили в предыдущие собрания сочинений писателя. Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким, в последний раз — при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов. Включённое в том произведение «Большая любовь» не было закончено автором и было известно читателям лишь по небольшому отрывку, появившемуся в печати до Октябрьской революции. В настоящем издании это произведение, примыкающее по своему содержанию непосредственно к «окуровскому циклу», впервые печатается так полно, как это позволяют сделать сохранившиеся рукописи М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда она напевала эту песнь — её чёрные, добрые глазки блестели мелкими, как жемчужинки на ризе иконы, слезами.
Но, прожив месяца три, она была уличена Власьевной в краже каких-то денег. Тогда отец, Созонт и стряпуха положили её на скамью посредине кухни, связали под скамьёю маленькие руки полотенцем, Власьевна, смеясь, держала её за ноги, а Созонт, отвернувшись в сторону, молча и угрюмо хлестал по дрожавшему, как студень, телу тонкими прутьями.
Макарьевна бормотала, точно водой захлёбываясь:
— Батюшки, помилуйте! Не виновата я перед господом… не виноватую… у-у…
— Сыпь, Сазан! — покрикивал отец, стоя у печи и крепко держа Матвея за руку.
А Власьевна, подмигивая на дворника, говорила:
— Гляди-ко — стыдится, морду-то отворотил как, а, мамоньки!
Матвей хотел попросить отца не сечь старуху, но не решился и горько заплакал.
— Будет! — сурово крикнул Кожемякин.
Тот день вечером у постели мальчика сидела Власьевна, и вместо тихих сказок он слышал жирные, слащавые поучения.
— Надо быть умненьким, тятеньку жалеть да слушаться, а ты от него по углам прячешься — что это?
Потом явилась дородная баба Секлетея, с гладким лицом, тёмными усами над губой и бородавкой на левой щеке. Большеротая, сонная, она не умела сказывать сказки, знала только песни и говорила их быстро, сухо, точно сорока стрекотала. Встречаясь с нею, отец хитро подмигивал, шлёпал ладонью по её широкой спине, называл гренадёром, и не раз мальчик видел, как он, прижав её где-нибудь в угол, мял и тискал, а она шипела, как прокисшее тесто.
Власьевна плакала, грозилась:
— Уйду! Еретик…
Но ушла Секлетея.
В тот день, когда её рассчитали, Матвей, лёжа на постели, слышал сквозь тонкую переборку, как отец говорил в своей комнате:
— Ну, чего орала да куксилась, дура толстомясая?
— Дорогуша ты моя, сердечная, — слащаво ныла Власьевна.
— Не лезь. Думаешь, не всё равно мне, какая баба? Не о себе у меня забота…
— Да уж я ли Мотеньке не слуга…
— Ему мать надобно…
Мальчик завернулся с головою в одеяло и тихонько заплакал.
Но теперь ему хотелось забыть, как секли ласковую старушку, а разговор отца с Власьевной хорошо и просто объяснял всё неприятное и зазорное:
«Это он — для меня…»
Отец выглянул в окно, крикнув:
— Моть, иди чай пить!
Пили чай, водку и разноцветные наливки, ели куличи, пасху, яйца. К вечеру явилась гитара, весёлый лекарь разымчиво играл трепака, Власьевна плясала так, что стулья подпрыгивали, а отец, широко размахивая здоровой рукой, свистел и кричал:
— Делай, ведьма! Моть — поди сюда! Любишь, стало быть? Эх, мотыль мой милый, монашкин сынок! Не скучай!
Он дал сыну стаканчик густой и сладкой наливки и, притопывая тяжёлыми ногами, качая рыжей, огненной головой, пел в лицо ему удивительно тонким и смешным голосом:
Матвею почему-то было жалко отца; ему казалось, что вот он сейчас оборвёт песню и заплачет.
— Марков — подкладывай огня! Ох, ты! Крутись! — командовал отец.
Коротенький лекарь совсем сложился в шар, прижал гитару к животу, наклонил над нею лысую голову, осыпанную каплями пота; его пальцы с весёлою яростью щипали струны, бегали по грифу, и мягким тенорком он убедительно выговаривал:
— И-их! — визжала Власьевна, отчаянно заламывая руки над головой.
— Марков! — вопил отец. — Гляди, а? Это ли не зверь, а?
— Холмы-горы! — отзывался лекарь, брызгая весёлым звоном струн, а Матвей смотрел на него и не мог понять — где у лекаря коленки.
Вдруг явился высокий, суровый Пушкарь, грозно нахмурил тёмное бритое лицо и спросил хриплым голосом:
— За что Муругого убили, беси?
Отец поднял завязанную руку, махая ею.
— Видал? Сустав с мизинца — напрочь! Марков ножницами отстриг. Садись, служба!
— Ещё башку тебе отстригут, погоди! — предупредил солдат, усмехаясь и взяв Матвея за руку.
— Айда спать!
Через несколько дней, в воскресенье, отец, придя из церкви, шагал по горнице, ожидая пирога, и пел:
Со двора в окно, сквозь узорные листья герани, всунулось серая голова Пушкаря. Он кричал:
— Опять кощунишь, Савёл? Опять носам?
— Поди прочь! — сказал отец, не останавливаясь.
— Я те говорю — осанна заступи! Осанна, а не — носам!
Отец подошёл к окну и, ударив себя кулаком в грудь, внушительно заговорил:
— Сам! Понимаешь, старый чёрт? Не я, а — бог! Но сам…
В окно полился торжествующий рёв:
— Ага-а, запутался, еретик! Я — не я, сам — не сам…
— Уйди!
— Осанну господню не тронь…
— У-ух! — взвыл Савелий Кожемякин и, схватив обеими руками банку с цветком, бросил ею в голову Пушкаря.
Это вышло неожиданно и рассмешило мальчика. Смеясь, он подбежал к окну и отскочил, обомлев: лицо отца вспухло, почернело; глаза, мутные, как у слепого, не мигая, смотрели в одну точку; он царапал правою рукою грудь и хрипел:
— Господи! Исусе… Исусе…
Матвей выскочил вон из комнаты; по двору, согнув шею и качаясь на длинных ногах, шёл солдат, одну руку он протянул вперёд, а другою дотрагивался до головы, осыпанной землёю, и отряхал с пальцев густую, тёмно-красную грязь.
Матвей кинулся в амбар и зарылся там в серебристо-серой куче пеньки, невольно вспоминая жуткие сказки Макарьевны: в них вот так же неожиданно являлось страшное. Но в сказках добрая баба-яга всегда выручала заплутавшегося мальчика, а здесь, наяву, — только Власьевна, от которой всегда душно пахнет пригорелым маслом.
На дворе раздался голос отца:
— Я вас, деймоны, потаскаю в амбар, запру и подожгу! Доведёте вы меня! Матвей! Мотюшка!
Вздрагивая от страха, мальчик выбрался из пеньки и встал в дверях амбара, весь опутанный седым волокном. Отец молча отвёл его в сад, сел там на дёрновой скамье под яблоней, поставил сына между колен себе и невесело сказал:
— Ну, что ты испугался? Пугаться вредно. Какая твоя жизнь будет в испуге да в прятышках? Не видал ты солдата пьяным?
— Ты ему голову разбил! — тихонько напомнил мальчик.
— Эка важность! На службе его и не так бивали.
Он долго рассказывал о том, как бьют солдат на службе, Матвей прижался щекою к его груди и, слыша, как в ней что-то хрипело, думал, что там, задыхаясь, умирает та чёрная и страшная сила, которая недавно вспыхнула на лице отцовом.
— Ты его не бойся! — говорил рыжий человек. — Он это так, со скуки дурит. Он ведь хороший. И дерутся люди — не бойся. Подерутся — помирятся.
Он говорил ласково, но нехотя, и слова подбирал с видимым трудом. Часто прерывая речь, смотрел в пустое небо, позёвывая и чмокая толстой губой.
Жадно пили свет солнца деревья, осыпанные желтоватыми звёздочками юной листвы, тихо щёлкая, лопались почки, гудели пчёлы, весь сад курился сочными запахами — расцветала молодая жизнь.