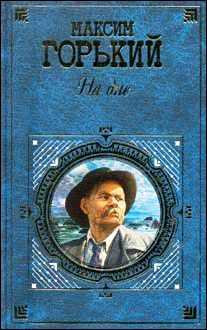Том 9. Жизнь Матвея Кожемякина

Том 9. Жизнь Матвея Кожемякина читать книгу онлайн
В девятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1909–1912 годах. Из них повести «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина» входили в предыдущие собрания сочинений писателя. Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким, в последний раз — при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов. Включённое в том произведение «Большая любовь» не было закончено автором и было известно читателям лишь по небольшому отрывку, появившемуся в печати до Октябрьской революции. В настоящем издании это произведение, примыкающее по своему содержанию непосредственно к «окуровскому циклу», впервые печатается так полно, как это позволяют сделать сохранившиеся рукописи М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Глядите-тка, сколько их к собору прёт! Сомнут они нас, ей же богу! Братцы!
— И мы туда! — загремел Кулугуров. — Али мы не граждане в своём городе? И ежели все нас покинули без защиты, как быть? Биться? Вавил, айда с нами, скажи-ка им там всё это, насчёт свободы, ну-ка!
Он засучил рукава пиджака по локоть и сразу несколькими толчками сбил, соединил всех в плотную, тяжёлую кучу. Бурмистрова схватили сзади под руки и повели, внушая ему:
— Ты — прямо говори…
— Не бойсь, поддержим!
— Полиции нет…
— Мы тебе защиту дадим…
— Насчёт кривого-то хорошенько!..
Вавила точно на крыльях летел впереди всех, умилённый и восторженный; люди крепко обняли своими телами его тело, похлопывали его по плечам, щупали крепость рук, кто-то даже поцеловал его и слезливо шепнул в ухо:
— На пропятие идёшь, эхх!
— Пустите! — говорил Вавила, встряхивая плечами. Малосильное мещанство осыпалось с него, точно лист с дерева, и похваливало:
— Ну, и здоров же!
И снова прилеплялось к возбуждённому, потному телу.
Бурмистров понял свою роль и, размахивая голыми руками, орал:
— Я их открою! Всех!
Он никогда ещё не чувствовал себя героем так полно и сильно. Оглядывал горящими глазами лица людей, уже влюблённых в него, поклонявшихся ему, и где-то в груди у него радостно сверкала жгучая мысль:
«Вот она, свобода! Вот она!»
Клином врезались в толпу людей на площади и, расталкивая их, быстро шли к паперти собора. Их было не более полсотни, но они знали, чего хотят, и толпа расступалась перед ними.
— Гляди! — сказали Бурмистрову. — Вон они!
На паперти, между колонн, точно пряталась кучка людей, и кто-то из них, размахивая белым лоскутком, кричал непонятные, неясные слова.
Сквозь гул толпы доносились знакомые окрики Стрельцова, Ключникова, Зосимы…
«Наши здесь!» — подумал Вавила, улыбаясь пьяной улыбкой; ему представилось, как сейчас слобожане хорошо увидят его.
Он вскочил на паперть, широко размахнул руками, отбрасывая людей в стороны, обернулся к площади и закричал во всю грудь:
— Православные! Все вы… собрались… и вот я говорю, я! Я!
Встречу ему хлынул густой, непонятный гул. Вавила всей кожей своего тела почувствовал, что шум этот враждебен ему, отрицает его. Площадь была вымощена человеческими лицами, земля точно ожила, колебалась и смотрела на человека тысячами очей.
В груди Бурмистрова что-то оборвалось, на сердце пахнуло жутким холодом; подняв голос, он напрягся и с отчаянием завыл, закричал, но снова, ещё более сильно и мощно, сотнями грудей вздохнула толпа:
— Долой! Не надо!
И рядом с ним, где-то сбоку, спокойно текла уверенная речь, ясно звучали веские слова:
— Кого же ставят они против правды? Вы знаете, кто этот человек…
Ещё раз внутри Бурмистрова туго натянулась какая-то струна — и со стоном лопнула.
— Врёт! — крикнул он в огромное живое лицо перед собой; обернулся, увидал сухую руку, протянутую к нему, тёмный глаз, голый — дынею — череп, бросился, схватил Тиунова, швырнул его куда-то вниз и взревел:
— Бей!
— Наших бьют! — взвыло окуровское мещанство.
И закружились, заметались люди, точно сор осенний, схваченный вихрем. Большинство с воем кинулось в улицы, падали, прыгали друг через друга, а около паперти закипел жаркий, тесный бой.
— Ага-а! — ревел старый бондарь Кулугуров, взмахивая зелёным обломком тетивы церковной лестницы. — Свобода!
Вавила бил людей молча, слепо: крепко стиснув зубы, он высоко взмахивал рукою, ударял человека в лицо и, когда этот падал, не спеша искал глазами другого.
Люди, не сопротивляясь, бежали от него, сами падали под ноги ему, но Вавила не чувствовал ни радости, ни удовольствия бить их. Его обняла тягостная усталость, он сел на землю и вытянул ноги, оглянулся: сидел за собором, у тротуарной тумбы, против чьих-то красных запертых ворот.
Неподалёку стояла кучка людей, человек десять, и среди них оборванный, встрёпанный Кулугуров, отирая большой ладонью разбитое лицо, громко говорил:
— Попало ему, кривому дьяволу, довольно-таки!
На пёстрых главах церкви Николы Мирликийского собралась стая галок и оглушительно кричала. Бурмистров взглянул на них, глубоко вздыхая.
Он как будто засыпал, его давила усталость, он тупо смотрел в землю и двигал ногой, растирая о камни чью-то измятую шапку.
— Всех разогнали, пока что! — кричал бондарь. — Так-то вот! Ну, айда!
Он высморкался пальцами и пошёл к Вавиле, сопровождаемый товарищами.
— Куда меня теперь? — тихо и угрюмо спросил Бурмистров, когда они подошли и окружили его.
— Что — ушибли тебя? — не отвечая, осведомился бондарь.
— Куда меня?
Но раньше, чем кончить свой вопрос, Вавила почувствовал, что его крепко держат за руки, поднимают с земли.
— А вот, значит, — серьёзно говорил Кулугуров, — как ты — первое — повинился нам в убийстве, а второе — драку эту начал, — ну, отведём мы тебя в полицию…
Кто-то добавил:
— Мы тебе, друг, не потатчики, нет!
Вавила взглянул на него и промолчал.
Пошли. Бурмистров смотрел в землю, видел под ногами у себя лоскутья одежды, изломанные палки, потерянные галоши. Когда эти вещи были близко — он старался тяжело наступить на них ногой, точно хотел вдавить их в мёрзлую землю; ему всё казалось, что земля сверкает сотнями взглядов и что он идёт по лицам людей.
И как сквозь сон слышал гудение встревоженного города и солидную речь бондаря:
— А бой в сём году рано начали — до михайлова-то дня ещё недели две время…
Как-то вдруг повалил снег, и всё скрылось, утонуло в его тяжёлой, ровной кисее.
— Удавлюсь я там, в полиции! — глухо и задумчиво сказал Вавила.
— Еретик — всегда еретиком останется! — ответили ему откуда-то со стороны.
— Не хочу, не пойду! — вдруг остановясь, крикнул Бурмистров, пытаясь стряхнуть уцепившихся за него людей и чувствуя, что не удастся это ему, не сладит он с ними.
Они начали злобно дёргать, рвать, бить его, точно псы отсталого волка, выли, кричали, катались по земле тёмною кучею, а на них густо падали хлопья снега, покрывая весь город белым покровом долгой и скучной зимы.
Во мгле снежной пурги чёрными пятнами мелькали галки.
И всё работал неутомимый человек, — где-то на Петуховой горке, должно быть; он точно на весь город набивал тесный, крепкий обруч, упрямо и уверенно выстукивая:
— Тум-тум-тум… Тум-тум…
Жизнь Матвея Кожемякина
Часть первая
По ночам, подчиняясь неугомонной старческой бессоннице, Матвей Савельев Кожемякин, сидя в постели, вспоминает день за днём свою жизнь и чётко, крупным полууставом, записывает воспоминания свои в толстую тетрадь, озаглавленную так:
«Мысленные и сердечные замечания, а также некоторые случаи из жизни города Окурова, записанные неизвестным жителем сего города по рассказам и собственному наблюдению».
Ниже, почерком помельче, приписано:
«Для чтения с доверием и для познания скорбной жизни уездного русского города».
Тетрадь лежит перед ним на косой доске столика-пюпитра; столик поставлен поверх одеяла, а ножки его врезаны в две дуги, как ноги игрушечного коня. С правого бока стола привешена на медной цепочке чернильница; покачиваясь, она бросает на одеяло тень, маленькую и тёмную, как мышь. В головах кровати, на высокой подставке, горит лампа, ровный свет тепло облил подушки за спиной старика, его жёлтое голое темя и большие уши, не закрытые узеньким венчиком седых волос. Когда старик поднимает голову — на страницы тетради ложится тёмное, круглое пятно, он гладит его пухлой ладонью отёкшей руки и, прислушиваясь к неровному биению усталого сердца, прищуренными глазами смотрит на белые изразцы печи в ногах кровати и на большой, во всю стену, шкаф, тесно набитый чёрными книгами.