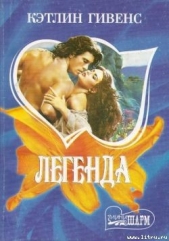Том 4. Творимая легенда
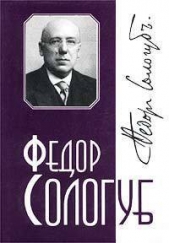
Том 4. Творимая легенда читать книгу онлайн
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века Федора Сологуба (1863–1927) печатается его философско-символистский роман «Творимая легенда», который автор считал своим лучшим созданием.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тяжким стуком отсчитывались в Елисаветином сердце темные, пламенные миги молчания. Темная томила досада на эти грустные слова о слабости и унынии, — и не верила она им. А Триродов говорил, словно дразня ее красивою, но бессильною печалью:
— Много труда, мало отрады. Проходит жизнь, как сон, безумный и мучительный.
— О, только бы яркий! только бы он был буйный! — восклицала Елисавета.
Триродов улыбался и говорил:
— Приближаются минуты пробуждения. Приходит старость, тоска томит. И пустая, и бесцельная влачится жизнь к каким-то неведомым пределам. Спрашиваешь сам себя, без надежды найти достойный ответ: зачем живу в этом странном и случайном обличии? Зачем избрал я эту долю? Зачем я это сделал?
— Но чья же вина? — спросила Елисавета.
Триродов отвечал:
— Сознание, созревшее до вселенской полноты, говорит, что вся вина — моя вина.
— И всякий подвиг, — мой подвиг, — сказала Елисавета.
— Так невозможен подвиг! — говорил Триродов. — Невозможно чудо. Хочу и не могу вырваться из оков этого плоского существования.
Елисавета сказала:
— Вы говорите о любви, как о несбыточном для вас. Но у вас была жена.
Грустно говорил Триродов:
— Была. Краткие промчались миги. Была любовь? Не знаю. Страсть, угар — и смерть.
— И опять будет сладостное в жизни, — уверенно сказала Елисавета.
И отвечал ей Триродов:
— Да, иная будет жизнь, но что мне? Быть иным, простым, — ребенком, мальчиком с босыми ногами, с удочкою в руках, с простодушно-разинутым ртом. Живут, на самом деле живут только дети. Им завидую мучительно. Мучительно завидую простым, совсем простым, далеким от этих безотрадных постижений разума. Живы дети, только дети. Зрелость — это уже начало смерти.
— Полюбить — умереть? — улыбаясь, спросила Елисавета.
Она прислушалась к звуку красивых и печальных слов, и повторяла тихо, и слушала тихие слова:
— Полюбить — умереть!
И вслушалась, и его услышала слова:
— Полюбила, — умерла.
Елисавета спросила тихо:
— Как звали вашу первую жену?
И удивилась, — зачем сказала — первую, — одна же была. И, медленно краснея, порозовела вся.
Триродов задумался, не слышал, молчал. Елисавета не повторила вопроса. Вдруг он улыбнулся и сказал:
— Вот и мы с вами чувствуем себя живыми людьми, и что для нас может быть более несомненным, чем наша жизнь, наше ощущение жизни? А может быть, мы с вами — вовсе не живые люди, а только действующие лица романа, и автор этого романа совсем не стеснен заботою о внешнем правдоподобии. Свое прихотливое воображение он преобразил в эту темную землю и из этой темной, грешной земли вырастил эти странные черноклены, и эти могучие осокори, и этих чирикающих в кустах, и нас.
Елисавета смотрела на него с удивлением; потом, улыбаясь, она сказала:
— Я надеюсь, что роман будет интересен и красив. Пусть бы хоть смертью он кончился! А вы сами, скажите, почему вы так мало пишете?
С неожиданною страстностью, почти с раздражением, отвечал Триродов:
— Зачем я стану писать целые томы, пересказывая истории о том, как они полюбили, как они разлюбили, и все это? Я пишу только то, что могу сказать сам от себя, что еще не было сказано. А сказано уже многое. Лучше прибавить свое одно слово, чем писать томы ненужностей.
— Вечные темы, всегда одно и то же, — говорила Елисавета, — разве не они составляют содержание великого искусства?
— Мы никогда не начинаем, — сказал Триродов. — Мы являемся в мир с готовым наследием. Мы — вечные продолжатели. Потому мы не свободны. Мы видим мир чужими глазами, глазами мертвых. Но живу я, только пока делаю все моим.
В эти часы их уединенных бесед Петр забирался куда-нибудь на вышку. Он спускался оттуда иногда с покрасневшими глазами, — от слез или от буйного ветра вершин. Томительно влеклись его дни. Ненависть к Триродову и ревность приступами иногда вновь начинали мучить его.
Петр иногда делал Елисавете неприятные, жалкие сцены. Он любил и ненавидел ее. Убил бы, — но где же ему было убить! Да и ненавидеть до конца он не был в силах, — ни Елисавету, ни Триродова.
Он ближе узнавал Триродова, — и ненависть уже теряла прежнюю остроту, не жгла крапивою злости, как прежде. Он с любопытством всматривался и начинал понимать. Томления бессознательной злости сменялись ясным созерцанием разделяющей пропасти. И от этого еще больше усиливалась тоска.
Он решился уехать; решался, — и раздумывал, и оставался опять; тосковал, метался.
Миша, так тот совсем влюбился в Триродова. Он полюбил оставаться с Елисаветою, чтобы наговориться о нем.
Однажды вечером Петр приехал к Триродову. Так ему не хотелось ехать, такие противоположные в душе боролись чувства! Но по соображениям условной вежливости надобно было.
Опять заспорили: по мнению Петра, религия и культура терпят ущерб от революции. Скучный, ненужный спор! Но Петр не мог удержаться от злых слов против крайностей «освободительного движения».
Он все время чувствовал себя неловко. Хотелось держать что-то в руках, что-то делать. Беспокойство какое-то странно томило. То брал, то выпускал из рук разные мелочи со стола. Взял в руки призму. Триродов вздрогнул. Тихо и невнятно сказал что-то. Петр не расслышал, смотрел с удивлением и неловко повертывал в руках тяжелую призму, удивляясь ее странной тяжести. Триродов нервно вздрагивал. Петр, неловко поворачивая призму, стукнул ею о край стола. Триродов вздрогнул, крикнул что-то невнятно, выхватил призму из рук Петра и взволнованным голосом сказал:
— Оставьте это.
Петр с удивлением смотрел на Триродова. Досада его вырастала. Триродов был, видимо, смущен. Петр, принужденно улыбаясь, спросил:
— Что же это?
— Как вам сказать! — говорил Триродов. — С этим связано… Пожалуйста, извините мою резкость. Мне показалось, что вы уроните эту вещь, а мне не хотелось бы… Это кажется капризом… И в сущности это, конечно, совершенно пустое… Так, с этим связано одно очень далекое воспоминание. Право, не понимаю сам, зачем я держу на своем столе эти вовсе не красивые вещи. Но есть воспоминания столь интимные… Вы понимаете… Но мне, право, очень жаль… — Петр слушал в недоумении. Вдруг он догадался, что невежливо молчать так долго, и заговорил, сам почему-то смущаясь:
— Пожалуйста, не беспокойтесь. Я очень хорошо понимаю, что есть вещи… Если вам тяжело или неприятно об этом говорить, то, пожалуйста…
Триродов несвязно и смущенно сказал еще несколько слов: извинялся, благодарил. С облегчением вздохнул он, увидев входящего Щемилова.
Петр перенес свое раздражение на вновь пришедшего и спросил иронически:
— Опять на свободе? Надолго ли?
— Латата задал, — спокойно ответил Щемилов. — Перешел на нелегальное положение.
Петр скоро ушел.
— Сегодня? — спросил Щемилов. — Здесь?
— Да, соберемся, — ответил Триродов. — Он еще не уехал, и есть важные дела и новости. Кое-что надо организовать, кое-что распространить.
— Удобный у вас дом, — сказал Щемилов. — Можно побаловаться? — спросил он, показывая на ящик с сигарами и усаживаясь поуютнее на широком диване. — Удобный, — повторил он, закуривая сигару. — Пока еще не догадываются, а если пожалуют, то все эти входы, и выходы, и закоулки… Очень удобно. И хранить — это не то, что у меня в сундучке.
Глава двадцатая
В городе было неспокойно: готовились забастовки, происходили патриотические манифестации. В окрестностях города ходили какие-то темные люди и разбрасывали по деревням прокламации, очень безграмотные. Эти прокламации угрожали поджогами, если не станут крестьяне бунтовать. Поджигать будут «студенты», уволенные с фабрик за забастовки. Крестьяне верили. В иных деревнях по ночам они ставили караульщиков, ловить поджигателей.
Стал играть заметную роль в городе Остров. Деньги, взятые у Триродова, он быстро промотал и пропил. Опять идти к Триродову он пока не смел, но на что-то рассчитывал и оставался в городе.