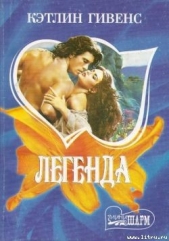Том 4. Творимая легенда
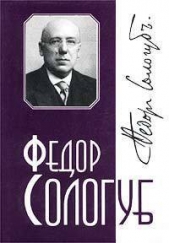
Том 4. Творимая легенда читать книгу онлайн
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века Федора Сологуба (1863–1927) печатается его философско-символистский роман «Творимая легенда», который автор считал своим лучшим созданием.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Остров говорил так же вяло:
— Вот теперь его ищут.
Триродов продолжал спрашивать:
— Зачем Полтинин убил полициймейстера?
Остров глупо хихикнул и говорил:
— Тончайшая политика! Так, значит, надо. А для чего, этого я вам не скажу. При всем желании не могу. Сам не знаю. Только догадываться осмеливаюсь. А что же могут значить наши догадки?
— Да, — сказал Триродов, — вы этого, пожалуй, и не можете знать. Дальше рассказывайте.
— Теперь это самое дело, — говорил Остров, — для нас очень доходная статья. Прямо — статья в бюджете.
— Почему? — спросил Триродов.
На лице его не было заметно удивления. Остров говорил:
— Есть у нас такой теплый человек, Поцелуйчиков.
— Вор? — коротко спросил Триродов.
Остров усмехнулся почти сознательно и говорил:
— Вор не вор, а плохо не клади. Человек строгий на этот счет.
Глаза Острова приняли откровенно-наглое выражение. Триродов спросил:
— Какое же у него отношение к этой вашей статье дохода?
Остров объяснил:
— А мы его посылаем к местным богатеям.
— Шантажировать? — спросил Триродов.
Остров с полною готовностью отвечал:
— Вот именно. Приходит он, скажем, к толстосуму. Имею, говорит, к вам дело по секрету, большого лично для вас интереса. Оставшись же с негоциантом наедине, говорит — пожалуйте пятьсот рублей. Тот, известно, на дыбы, — как это так? за что такая прокламация? А так-с, говорит, за то за самое. Иначе, говорит, вашего сынка-первенца в тюрьму засажу, ибо могу доказать, что ваш сынок-первенец имеет касательство к убиению доблестного полициймейстера.
— Дают? — спросил Триродов.
— Кто дает, кто выпроваживает, — отвечал Остров.
Триродов сказал презрительно:
— Милая компания! Что же вы еще замышляете?
С тем же безвольным послушанием Остров рассказал Триродову, что в их компании замыслили украсть чудотворную икону из соседнего монастыря, сжечь ее, а драгоценные камни, которыми она осыпана, продать. Дело это трудное, потому что икону берегут. Но друзья Острова рассчитывают воспользоваться одним из летних праздников, когда монахи, проводивши именитых богомольцев, подопьют изрядно. Таким образом, на приготовления к этой краже у воров остается больше месяца; это время они намерены использовать на то, чтобы втереться в дружбу к монахам и хорошенько ознакомиться с обстановкою.
Триродов молча выслушал все это, потом сказал Острову:
— Забудьте, что вы мне все это рассказывали. Прощайте.
Остров встрепенулся. Он казался точно вдруг проснувшимся. Не понимая причин своего тягостного смущения, он неловко распрощался и ушел.
Триродов думал, что необходимо предупредить здешнего епархиального епископа о готовящейся краже чудотворной иконы.
Епископ Пелагий жил в том же монастыре, где хранилась чтимая народом икона Божией Матери. В том же монастыре покоились мощи святого старца. К этим святыням на поклонение шли с разных концов России. Поэтому монастырь считался богатым.
Триродов долго думал о том, каким способом известить епископа Пелагия о замышленной краже. Сделать это посредством безыменного письма Триродову было противно. Сказать об этом епископу лично или написать от себя было бы лучше. Но тогда явился бы вопрос, откуда сам Триродов узнал об этом замысле. Ведь может случиться, что его самого заподозрит кто-нибудь в соучастии с преступниками. И без того здешние горожане смотрели на Триродова косо.
Страшно ему было опять впутываться в темную историю. Уже досадовал он на себя за это странное любопытство, которое заставило его расспрашивать о чужих делах Острова. Лучше было бы совсем не знать о преступном замысле. Промолчать же о готовящейся краже Триродов не видел никаких оснований. Он думал, что темные стороны монашеской жизни не могут оправдать злого дела, замышленного товарищами Острова. Притом же последствия этого дела могли быть очень опасны.
Триродов наконец решился ехать в монастырь. «На месте, — думал он, — виднее будет, как осведомить епископа». Но эта поездка была ему так неприятна, что он долго откладывал ее.
Глава восемнадцатая
Триродов понял, что он полюбил Елисавету. Он знал это чувство — сладкую и мучительную влюбленность. Опять оно пришло и снова расцветило ярко весь мир. А на что он, этот мир, широкий и вечно недоступный, полный воспоминаниями о пережитом, — о пережитых? Но полюбить ее, полюбить Елисавету, — это и значит — полюбить и принять мир, весь мир.
Смущало Триродова это чувство. К недоумениям прошлого, еще не сбытого с плеч, — и настоящего, начатого по странному наитию и еще не взвешенного, — присоединялось недоумение будущего, новой и неожиданной связи. И самая любовь — не средство ли осуществлять мечты?
Вначале Триродов хотел задавить в себе эту новую влюбленность и забыть Елисавету. Он пытался удалиться от Рамеевых, не бывать у них, — но с каждым днем все более влюблялся. Все неотступнее становились думы и мечтания о Елисавете. Они сплетались, срастались со всем содержанием души. Все чаще вычерчивались карандашом на бумаге то ее строгий профиль, разнеженный юным восторгом освобождения, то ее простой наряд, то быстрый очерк ее плеча и шеи, то узел ее широкого пояса.
Опять и опять жестокая возникала надежда — задавить, раздавить нежный цвет сладкой влюбленности. И вот уже несколько дней Триродов не показывался к Рамеевым. Даже в те дни, когда его, по привычке, быстро установившейся, ждали.
Это казалось Елисавете преднамеренным невниманием и обижало ее. Но она продолжала защищать его каждый раз, когда Петр его бранил. Она вызывала все чаще воображением его черты, — глубокий, наблюдающий взор, ироническую, надменную усмешку, бледное лицо, гладко выбритое, как у актера, и такое холодное, точно маска. Так сладко и горько она влюблялась, мерцанием синих глаз сладкую выдавая мечту.
Рамеев заметно скучал о том, что долго не видит Триродова. Он привык к нему очень скоро. Ему приятно было поговорить с Триродовым, иногда поспорить. Раза два заходил он к Триродову и не заставал. Рамеев несколько раз писал приглашения. В ответ приходили вежливые, но уклончивые письма с выражением сожаления о невозможности прийти.
Однажды вечером Рамеев ворчал на Петра:
— Из-за твоей грубости человек перестал бывать.
Петр ответил резко:
— А и пусть не бывает, я очень рад.
Рамеев строго посмотрел на него и сказал:
— Да я не рад. Один интересный человек в этой глуши, да и того мы отпугнем.
Петр извинился. Ему стало неловко. Он один вышел из дому, так, без цели, только бы уйти от своих.
Вечерняя заря горела долго, мучительно не хотела умирать, точно это был последний день, и наконец погасла. Синее, — сладостно-синее, — стало все небо. Только на северо-западе край его прозрачно зеленел. Сквозь высокую синеву дрожали тихие звезды. Луна, давно бледно белевшая в светлой прозрачности, поднялась желтая и ясная. На земле стало почти совсем темно. На берегу реки было прохладно, — после жаркого дня. Пахло гарью лесного пожара, но и этот запах в мглистой прохладе вечера смягчал свою противную, злую горечь. У невысокой, темной плотины купалась зеленоволосая, зеленоглазая русалка, и плескалась хрупкозвучною волною, и в лад плеску струй смеялась звонко.
Петр шел тихо по прибрежной аллее и думал об Елисавете, грустно и лениво думал, — вернее, вспоминал, — вернее, мечтал, — вернее, безвольно отдавался грустной игре нервных сплетений в мозгу. Тихое безмолвие вечера, столь родное ему, говорило ему без слов, но внятно, что строй его души слишком тих и слаб для Елисаветы, такой сильной, прямой и простой.
В нем была маленькая дерзость, — и не было великих дерзновений. Он только верил в Христа, в Антихриста, в свою любовь, в ее равнодушие, — он только верил! Он только искал истины и не мог творить, — ни бога из небытия вызвать, ни диавола из диалектических схем, ни побеждающей любви из случайных волнений, ни побеждающей ненависти из упрямых «нет». И он любил Елисавету! Любил давно, любовью ревнивою и бессильною.